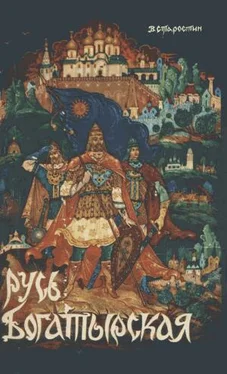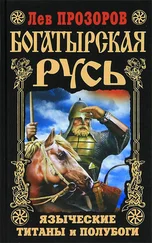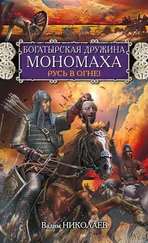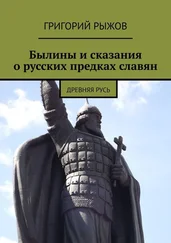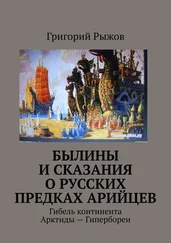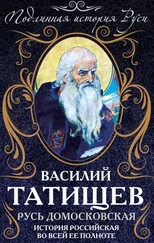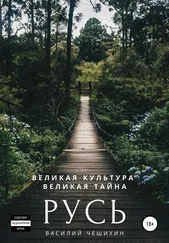В. А. Старостин полагает, что, отказавшись от традиций древнего былинного стиха, наша поэзия утратила не только определенную ритмическую форму, но и само воплощённое в ней содержание. Вот почему автор стремится возродить былинный лад и самим своим творчеством, и теоретической разработкой этого лада в целом ряде статей, опубликованных им за последние годы.
Кое-кому это может показаться ненужным и даже странным. Ведь вот уже почти 250 лет русская поэзия развивается по иному пути. Она воплощается в ритмической форме общеизвестных пяти классических размеров. Правда, можно вспомнить о «Песне про купца Калашникова» Лермонтова, о некоторых произведениях Некрасова и других поэтов, выходивших за пределы классического стиха. И все же это только отдельные отклонения. Так оправданны ли попытки возрождения былинного лада?
В этой связи очень уместно будет напомнить о творчестве одного замечательного, даже удивительного человека, имя которого уже было названо. Речь идет о Николае Александровиче Львове (1750— 1803). Он вырос в имении около Торжка, с шестнадцати лет служил в Измайловском полку, чрезвычайно серьёзно занимался самообразованием, объездил Европу. Львов был подлинно ренессансным человеком. Он построил целый ряд замечательных архитектурных сооружений, занимался разведкой и добычей каменного угля, записывая и издавая русскую народную музыку, сам сочинял оперы, был теоретиком и практиком крупных торговых операций, переводил Анакреона, Петрарку, исландские саги и т. д., и т. п. Он был вдохновителем наиболее значительного русского художественного кружка конца XVIII столетия и членом Российской академии наук. Собственно говоря, всего и не перечислить...
Помимо прочего, Николай Львов, ближайший друг Державина, был талантливым поэтом. Здесь имеет смысл обратить внимание на одну сторону его лирического творчества.
Львов вступил в поэзию через три десятилетия после того, как Ломоносов создал русский стих в том его виде, в каком он, в общем и целом, существует и теперь. Львов очень высоко ценил Ломоносова, но, исходя из национальной идеи, предлагал пойти по иному пути — по пути русского народного стиха. Он писал почти 200 лет назад:
Выйду, выйду я в поле чистое
И, поклон отдав на все стороны,
Слово вымолвлю богатырское:
«Ох ты гой еси, русский твёрдый дух!
Сын природных сил, брат весёлости,
Неразлучный друг наших прадедов...
Покажися мне, помоги ты спеть
Песню длинную, да нескучную,
Да нескучную, богатырскую!..»
...Но что, товарищи!
Что уста ваши ужимаете?..
...Знать, низка для вас богатырска речь?
Иль невместно вам слово русское.
На хореях вы подмостилися,
Без екзаметра, как босой ногой,
Вам своей стопой больно выступить.
Но приятели! в языке нашем
Много нужных слов поместить нельзя
В иноземские рамки тесные.
Анапест, спондей и дактили
Не аршином нашим мерены,
Не по свойству слова русского
Были за морем заказаны;
И глагол славян обильнейший,
Звучный, сильный, плавный, значащий,
Чтоб в заморскую рамку втискаться,
Принужден ежом жаться, корчиться
И, лишась красот, жару, вольности,
Соразмерного силе поприща,
Где природою суждено ему
Исполинский путь течь со славою,
Там калекою он щетинится,
От увечного ж ещё требуют
Слова мягкого, внешность бархата... [2] Поэты XVIII века. Т. 2. Л., «Советский писатель», 1972, с. 226-231.
Нам должно быть совершенно ясно, что творческие устремления В. А. Старостина не новы, они опираются на давнюю и весомую традицию русской литературы.
Конечно, нельзя согласиться с тем, что былинный лад должен и может «вытеснить» классические формы стиха. Но для меня несомненно, что наряду с классическим стихом в русском словесном творчестве может и должен существовать и развиваться тот былинный лад, которым в наши дни наиболее умело владеет Василий Адрианович Старостин.
В. Кожинов
Перевелись ли богатыри на светлой Руси
/Каменное побоище/
Из-под озера да моря Ильменя,
Из ключа-родника из поддонного
Источилась-истекала там живая вода,
Под землёй Старо-Русовой просачивалась.
Да и вышла-повышла-повыбежала‚
Выбегала-вылетала матка Волга-река:
Широка-глубока под Казань прошла,
А пошире и того ещё — под Астрахань.
Я вставал-приходил к Волге-матери,
Я выспрашивал, я выпытывал:
«Отчего перевелись богатыри на Руси?»
Видно, спрос мой был не ко времени,
Видно, не было в нём правды-истины —
Волга-матушка осержалася,
Волновою непогодой разражалася,
Охлестнула-обдала меня холодной волной:
Не хотела Волга-мать речевать со мной.
Без ответа-привета я стою одинок,
Я под бурею, я под хмурою.
Читать дальше