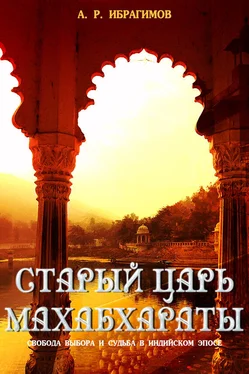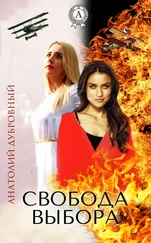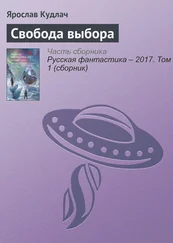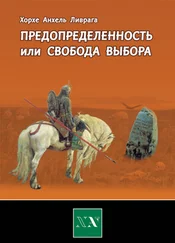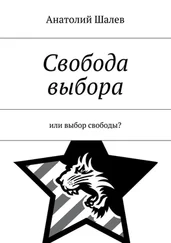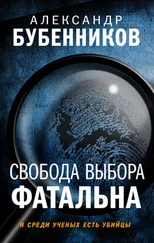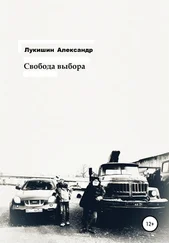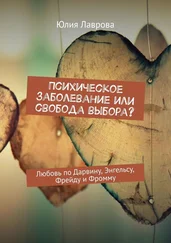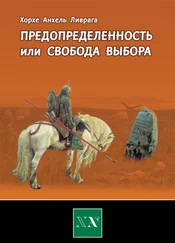Так поступает царь Айодхьи Амбариша, приобретающий среднего сына мудреца Ричики за огромный выкуп:
«…За десять миллионов золотом,
За сто тысяч коров…
И множество драгоценных камней
Выменял для себя Шунахшепу
И остался весьма доволен».
(Рм I, 61, 22–23)
Тем удивительнее выглядит выбор Дхритараштры, который многое говорит о царе. Мягкий, вечно колеблющийся царь (в его нерешительности мы многократно убедимся) в данном случае демонстрирует несвойственную ему и неслыханную для эпического отца и правителя твёрдость. В результате Дхритараштрa даже не пытается избавиться от старшего (из ста!) сыновей, хотя его первенцу суждено принести несчастье династии и разорение стране. Так чувства Дхритараштры-отца становятся на пути исполнения обязанностей Дхритараштры-царя. Это предвещает несчастья царскому роду и всей стране в соответствии с пророчеством. Кроме того, аудитория впервые получает представление о безмерном чадолюбии Дхритараштры, способного нарушать советы и предписания ради блага первенца.
Со смертью Панду вновь остро встаёт вопрос престолонаследия. Что можно узнать о его правилах из текста сказания? Прежде всего, в царских династиях Мбх, очевидно, преобладает право первородства. Когда далёкий предок Кауравов царь Яяти посвящает на царство своего младшего сына Пуру, народ проявляет недовольство (Мбх I, 80, 12–15). Отметим, кстати, что этот пример, как и события, которые нам предстоит рассмотреть, намекают на то, что для воцарения наследника, помимо желания старого царя, нужна санкция брахманов и старейшин. Через много поколений после Пуру правила престолонаследия нарушает Бхишма: старший сын царя Шантану сам отказывается от трона в пользу (ещё не зачатого!) младшего брата. Этот поступок Бхишмы также не раз отмечается сказанием, как необычный. Наконец, сказание устами Дхритараштры прямо сообщает о праве старшего сына на царство его отца (Мбх I, 107, 24–27). Исключения составляют «отклонения от нормы». Во-первых, как объяснено ранее, это физический изъян наследника, и примеры подобного рода можно найти в Мбх. У деда Бхишмы царя Пратипы было три сына. Старший из братьев «Девапи, наделённый великой мощью, был предан долгу, правдоречив и находил радость в послушании отцу своему. Но царь тот, превосходнейший из всех, страдал проказой» (Мбх V, 147). В результате, когда старый царь хотел сделать своего фаворита наследником, «брахманы и все старцы вместе с горожанами и сельскими жителями воспрепятствовали тому посвящению Девапи». Причина ясна: «Хранителя земли с телесным изъяном не одобряют божества», – как объясняет сыну сам Дхритараштра. История Девапи, кстати, в очередной раз подтверждает необходимость утверждения кандидатуры наследника представителями сословий, что неудивительно, так как царь несёт ответственность перед подданными [в своё время Бхишма скажет, что царь, который не защищает подданных, может быть безжалостно убит ими как бешеная собака (Мбх XIII, 60, 19–20)]. Кроме того, здесь мы видим пример того, как из-за слепой отеческой любви старый царь пытается нарушать установления. Оказывается, помимо телесного изъяна, препятствием для интронизации может быть и порочность наследника: царь Сагара по просьбе горожан изгнал своего сына Aсаманджаса, который ради развлечения «хватая за пятки слабых, плачущих детей горожан, сбрасывал их в воду» (Мбх III, 106, 10). Так принц-садист был лишён права на престол.
Мы уже знаем, что Панду стал царём, а Дхритараштре в троне было отказано. Кроме того, Гандхари явно проиграла «гонку деторождения»: Юдхиштхира появился на свет на год раньше Дурьйодханы. Тем не менее, Дхритараштра с самого начала (то есть при жизни Панду) задумывался о троне для своего потомства (Мбх I, 107): «…Дхритараштра, как только родился его сын, созвал многочисленных брахманов, Бхишму и Видуру и сказал так: „Юдхиштхира, старший царевич, продолжатель нашего рода, получил царство благодаря своим добродетелям (принцу всего год, и речь, разумеется, идёт не о моральных достоинствах младенца, а о его бесспорном праве на престол – А. И.). У нас нет возражений против этого. Но этот (мой сын), родившись непосредственно после него, должен ли также быть царём?“».
Кому принадлежала власть в царстве Кауравов во время отшельничества Панду? Сведения об этом несколько противоречивы. С первого взгляда может показаться, что, удалившись в лес с целью покаяния, Панду отрёкся от престола (Мбх I, 117, 1–2): «Предав сожжению (тело) Панду, великие риши, подобные богам и занятые покаянием, собрались и стали совещаться: „ Оставив власть и царство , этот благородный и великий праведник пришёл под защиту отшельников… чтобы предаться покаянию“» (курсив наш – А. И.). Далее отшельники решают отвести юных Пандавов в столицу, «чтобы передать их Бхишме и Дхритараштре». В каком качестве упоминается здесь слепой Каурава – легитимного царя или просто дяди, то есть ближайшего мужского родственника (и опекуна) сирот? Ситуация, которую застают Пандавы и Кунти сразу по возвращении в столицу, говорит скорее в пользу того, что во время отшельничества Панду власть (в который раз!) была передана в надёжные руки Бхишмы. Ведь когда почтенные отшельники доставляют Кунти с царевичами ко двору, их там встречают все представители рода, но именно «Бхишма тогда поведал великим риши» (праведным мудрецам – А. И.) «о (состоянии) власти и царства». Итак, отчёт о состоянии державы даёт престарелый Бхишма. Можно думать, что регентство Бхишмы было мерой сугубо временной, и власть в своё время должна была быть передана законному наследнику последнего законного царя – Панду. В момент появления юных Пандавов при дворе их право на престол сомнению не подвергается: отшельник, повествующий о гибели Панду, в своей речи постоянно называет покойника наследником и продолжателем рода Куру, а о рождении его пятерых сыновей говорит как о возрождении царского рода. Во время погребального обряда все, включая Дхритараштру, о Панду действительно говорят не как об отрекшимся от престола, но как о покинувшем свой народ царе. Значит, его первенец Юдхиштхира является законным наследником.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу