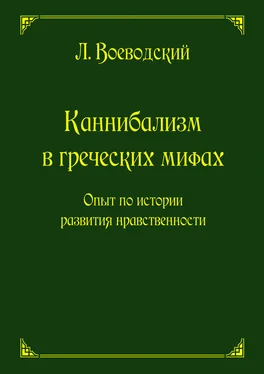Таким образом, единственным обстоятельством, могущим вызвать наказание за убийство, является первоначально только месть родственников. Лишь благодаря тому, что с этой стороны убийство подвергалось преследованию, оно могло с течением времени получить характер дела преступного. Но следы первоначального значения убийства сохранились даже до поздних, исторических времён Греции, когда оно уже давно стало считаться преступлением, оскверняющим человека. В Аттике право судебного преследования за убийство имели только родственники и домочадцы, в объяснение чего уже Отфрид Мюллер остроумно замечает: «Всякое преследование убийцы всегда вытекало лишь из обязанности (родственников) отомстить за смерть убитого». [237] Если не было людей, имеющих право жаловаться на убийство, то убийца не мог быть наказан. Принцип мести, который нам кажется столь неблаговидным, ложится, таким образом, в основание идеи справедливости. Законодатели, руководясь нравственными мотивами своей среды, признают святость мести и ограждают её законами, которые вследствие этого сами получают в глазах народа особенную санкцию (сравн. французское: vengeance des lois). Вот каким путём выработалось, наконец, и самое идеальное понимание справедливости: fiat justitia, pereat mundus.
Есть, конечно, люди, которые и тут стараются извратить факты в пользу своих теорий: вследствие невнимания к законам естественного развития, они считают нужным «оправдывать» аттических законодателей, утверждая, что они руководствовались соображением о бесполезности наказания людей, на которых никто не жаловался. Странно: в оправдание чисто нравственного мотива они указывают, таким образом, на принцип чрезвычайно сомнительного достоинства, в нравственном отношении, – на принцип бесполезности наказания! Лучше бы уж сослаться в таком случае на некоторые данные в аттическом законодательстве, по которым будто бы людям, и не принадлежавшим к семейству убитого, предоставлялась возможность жаловаться на убийцу. [238]
Итак, мы видим, что найденные нами в мифах указания относительно первоначального значения убийства не только не опровергаются историческими данными, а напротив, находят в них своё подтверждение. При этом для истории этики обнаруживается ещё одно важное обстоятельство, на которое следует указать хоть мимоходом. В древнейших мифах убийство, как мы видели, не представляется делом преступным, и единственным мотивом, могущим вызвать преследование убийцы, является месть. Эта последняя становится, таким образом, чрезвычайно важным фактором в развитии нравственности. С течением времени она получает характер священного долга и оставляет затем явные следы своего влияния даже на позднейшем законодательстве. Но, чтобы достичь такого громадного значения, само это чувство должно было постепенно развиваться, ибо, ввиду неразвитости и чуть ли не полного отсутствия этого чувства у низших животных, мы не имеем никакого основания полагать, что с древнейших пор оно было присуще человеческой природе в столь замечательной степени. Поэтому всё, что могло развить в человеке это чувство, всё, что в нём усиливало жажду мести, становится в наших глазах необходимым условием для развития нравственности. Даже самая неблаговидная, на первый взгляд, жестокость получает, таким образом, важное этическое значение, заставляющее нас смотреть иными глазами и на существующее до сих пор систематическое приучение к жестокости у некоторых дикарей, которые заставляют своих жён и детей истязать пленных врагов самыми мучительными способами. С другой стороны, вдумавшись в настоящее значение первых порывов мести, добытых путём таких истязаний, мы поймём, какой громадный подвиг в истории нравственности представляют некоторые примеры мести, встречающиеся в мифах, например, в рассказе о жестоком обращении Ахилла с мёртвым телом Гектора, – рассказе, напоминающем нам известный обычай кровомщения (Blutrache). [239]
Не считая, однако, уместным останавливаться на всех затронутых здесь вопросах, я должен довольствоваться сделанными мною немногими указаниями, из которых всё-таки, надеюсь, уясняется, какой драгоценный материал дают мифы для истории нравственного развития.
§ 14. Детоубийство, бросание детей, плодоизгнание
Если мифологические указания в совокупности с историческими данными ведут нас к заключению, что обман, воровство и даже убийство не всегда были делами преступными, а, напротив, составляли некогда живые звенья в развитии нравственности, то после всего вышесказанного, такого рода вывод сам собой не представляет ещё ничего особенно странного. Действительно, раз согласившись смотреть на развитие нравственности подобным образом, как мы смотрим на развитие других проявлений человеческого духа, мы не найдём ничего неестественного в том, что первые фазисы этого развития кажутся столь грубыми в сравнении с данными позднейшего развития, что могут даже быть противопоставлены им как нечто противоположное, враждебное. Точно такое же явление мы замечаем, например, в истории искусства. Стоит взглянуть только на древнейшие «художественные» произведения, например, на грубые изображения идолов, чтобы убедиться, что вряд ли мыслимо отыскать во всей природе что-либо столь отвратительное и так сильно противоречащее, по-видимому, всем требованиям эстетического вкуса, как эти предметы; а между тем мы должны в них видеть первые проявления именно эстетического вкуса.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу