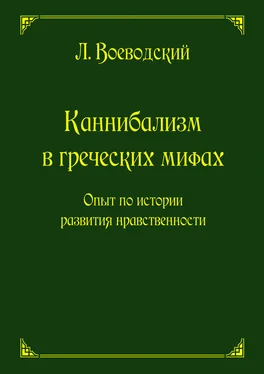Но мы не будем вдаваться в вопрос о том, что в нашем гимне было его первоначальным составом, и не представляет ли он, в дошедшей до нас форме, обработку, может быть, даже нескольких гимнов. [156] Для нас важно то, что приведённый нами отрывок не может быть позднейшей вставкой, чего никто ещё до сих пор и не утверждал. Поэтому мы посмотрим, насколько верно юмористическое понимание именно этого места, которое, заметим мимоходом, приводится преимущественно в оправдание этого толкования. Я не буду настаивать на мнении, что приведённый мною отрывок составлял некогда часть гимна, имевшего богослужебное значение. [157] Но вместе с тем я не вижу, однако, возможности отрицать торжественность тона в предшествующем ему обращении к Музе. Если не считать наперёд воровство делом безнравственным, то окажется, что не только в приведённом отрывке, но во всём даже гимне нет ничего, что противоречило бы этому торжественному вступлению, характеризующему наш отрывок, как произведение серьёзное, вроде Гесиодовой теогонии. Иное дело, если бы за таким вступлением последовало, например, описание «войны лягушек с мышами» или нечто подобное; тогда контраст возвышенных приёмов с ничтожностью сюжета служил бы к усилению юмористического тона, но в данном ведь случае содержание религиозное.
В рассматриваемом гимне я нигде не открыл что-нибудь такое, что указывало бы на насмешливое, шутливое обращение с Гермесом, одним из наиболее почитаемых божеств Греции. Грот, в «Истории Греции», видит непочтительное обращение в следующих словах гимна: «Гермес мало делает добра (людям); он пользуется темнотою ночи, чтобы обманывать непомерно народы смертных людей». [158] Но видя в этих словах необычайную вольность в обращении с божеством, Грот очевидно ошибается. В том же гимне описывается, как Аполлон, чуть ли не более всех уважаемое божество Греции, обещает Гермесу свою дружбу, уверяя его, «что никто из бессмертных не будет ему милее, ни Бог, ни человек из Зевсова рода». [159] Поэтому в словах: «он мало делает добра (пользы)», или нельзя видеть непочтительность, или следует по крайней мере признать эти стихи вставленными; но в последнем случае они уже не могут служить подтверждением предположения о юмористическом тоне нашего отрывка. Следует, впрочем, заметить, что древнее божество, для того, чтобы быть уважаемым, вовсе не нуждалось в качествах христианской добродетели, и что, напротив, эта последняя могла бы лишь повредить ему в глазах тогдашнего общества.
В доказательство приведу молитву, которая произносилась савийцами в храме Сатурна во время жертвоприношения этому божеству. Жертвой был старый бык с выломанными зубами. Вот эта молитва: «Да будешь ты свят, о боже, которому врождённо зло как качество; который не делает добра, будучи сам несчастьем и противоположностью счастья; который, прикасаясь с прекрасным, делает его некрасивым и, взглянув только на счастливого, делает его несчастным. Мы приносим тебе жертву, похожую на тебя. Поэтому прими её от нас благосклонно и отврати от нас все твои бедствия, и бедствия, происходящие от твоих коварных и обманчивых демонов, которые придумывают зло для каждого». [160] Подобного содержания молитва тех же савийцев к Марсу: «О, ты, злой, непостоянный, острый, огненный бог! Ты любишь возмущение, убийство, разрушение, пожар и кровопролитие. Мы тебе приносим жертву, похожую на тебя (то есть человека!) Прими её благосклонно и отврати от нас бедствия твои и твоих демонов». [161] В сочинении Хвольсона «Савийцы», откуда заимствованы эти молитвы, мы находим несколько сближений с греческими примерами, из которых укажу на следующее место Илиады, где прогневанный Зевс говорит раненному под Троей Марсу:
«Ты, ненавистнейший мне меж богов, населяющих небо!
Распря единая, брань и убийство тебе лишь приятны!
Матери дух у тебя, необузданный, вечно строптивый,
Геры, которую сам я с трудом укрощаю словами!
Ты и теперь, как я мню, по её же внушениям страждешь!
Но тебя я страдающим долее видеть не в силах:
Отрасль моя ты, и матерь тебя от меня породила.
Если б от бога другого родился ты, столько злотворный ,
Был бы уже ты давно преисподнее всех Уранидов!» [162] .
Тут мы находим все те эпитеты, которые видели в савийской молитве. Что они высказаны Зевсом в гневе, – это не придаёт им ещё порицательного значения в этическом смысле; так, например, Ахилл в гневе называет Агамемнона « знаменитейшим » и вслед за тем « самым жадным из всех» [163] , причём можно даже сомневаться, считалась ли жадность пороком, так как между прочим в Ведах мы находим такую молитву: «сделай нас жадными к сокровищам» [164] . Подобным образом в другом месте Афина называет Марса «безумным» и «не знающим никаких законов». [165] Если бы подобные выражения считались действительно обидными, то поэт вряд ли дозволил бы себе приводить их. Напротив, известно, что на низкой ступени развития народ уважает необдуманность и все порывы страсти, особенно гнева, который с таким воодушевлением воспевается в Илиаде. В одном из священных ведических гимнов, обращённом к Марутам, эти последние называются героями, «гневными, как змеи». [166] Так же точно мы знаем, что неуважение к законам представлялось достоинством, которым, конечно, не всякий мог обладать. Как на лучший пример в этом отношении можно указать на описание Циклопа в Одиссее, который гордится тем, что ему некого бояться: ни Зевса, ни прочих бессмертных богов. [167]
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу