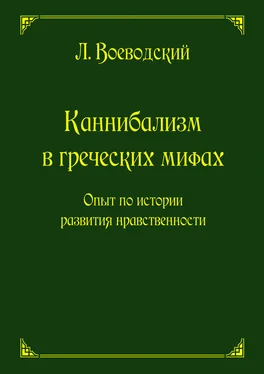Подобного рода двойная варка Пелопа в первоначальной форме мифа положительно немыслима. Очевидно, что со слов «говорят, что только Деметра» и т. д. начинается новый миф. Если мы теперь взглянем на первую половину рассказа, то окажется, что и тут находится много нелепого, именно вследствие старания представить поступок Тантала безбожным. Тантал подносит богам не просто человеческое мясо, а даже мясо своего сына по недостатку чего-либо другого, тогда как, напротив, богатство Тантала перешло даже в поговорку! [774] Зевс, зная обо всём, не только не препятствует варке Пелопа, но даже допускает, чтобы одна из богинь съела кусок человеческого мяса!
Несравненно лучше сохранялся этот миф в другом месте тех же схолий. «Тантал, очень любимый богами, желая оказаться благодарным, закалывает своего собственного сына и даёт его на съедение богам». [775] Затем, конечно, и тут следует та же история о съеденном плече и новой варке Пелопа. Оставив эту вторую половину в стороне, мы найдём этот рассказ совершенно рациональным. Известно, как часто в древности жертвовали божеству самое лучшее, что имели, именно детей, даже единородных сыновей. Тантал угостил богов мясом своего сына, конечно, не с тем, чтобы вызвать их гнев, а напротив, чтобы угодить им. В таком случае становится понятным и особенное расположение к нему этих последних.
Что, с другой стороны, Тантал является, как известно, жестоко наказанным богами, это имеет свои особенные причины. Тантал есть вообще представитель древнейшей грубости нравов. В мифах о его наказании сохранилась только смутная память о жестокости древнейших времён и тех наказаний, которые были тогда в употреблении. Связь между этими мифами о наказании и мифом о варке Пелопа, будто Тантал был наказан именно за этот поступок, – эта связь есть результат только позднейших комбинаций. Это вполне явствует из того обстоятельства, что рядом с этой догадкой о причине наказания Тантала существовало и множество других, очевидно, более древних догадок. [776] Такие догадки были бы немыслимы, если бы напрашивающаяся сама собой связь наказания с варкой родного сына существовала уже первоначально.
Противоположного мнения придерживается, правда, Г. Д. Мюллер. Удачно выказав вероятие своего предположения, что Тантал (=Тартар) есть хтоническое божество и, следовательно, должен иметь своё пребывание в аду, где он и на самом деле изображается терпящим какие-то наказания, Мюллер считает возможным заключить отсюда без дальнейших доказательств, что принесение в жертву сына и истязания Тантала в аду были уже первоначально связаны в мифе как преступление и наказание. [777] Но сам Мюллер замечает, что эту связь мы находим только в очень немногих рассказах. Обыкновенно мифы выставляют другие мотивы наказания. Отсюда следует, что когда-то было немыслимо, чтобы Тантал был наказан именно за свой поступок с сыном, за поступок, который считался, должно быть, очень благочестивым. Что Тантал подвергся со временем той же участи, как и все древнейшие божества, в этом нет ничего удивительного. Его падение было вызвано появлением новых культов, причём, естественным образом это падение стало мотивироваться впоследствии грубостью преданий, связанных с его именем. Но из этого никак не следует, чтобы поступок Тантала представлялся уже первоначально причиной его наказания. Мюллер отстаивает эту связь только для того, чтобы сблизить миф о варке Пелопа с мифом о Ликаоне. Ликаон, принёсши в жертву своего сына, превращается в волка; Тантал за подобный поступок попадает в ад. [778] В этом Мюллер видит подтверждение своей догадки, что волк есть символ ада. [779] К тому же он указывает ещё, что Крон за желание проглотить Зевса был тоже заперт в Тартар. Неужели из столь неясного, неопределённого сближения можно делать какие-нибудь выводы! Такими приёмами можно было бы доказать всё возможное и невозможное. Вдобавок сам же Мюллер в ином месте высказывает сомнение, чтобы Ликаон представлялся превращённым в волка в наказание за свой поступок. [780]
Атреево угощение.
Эсхил, в своём «Агамемноне», впервые передаёт сказание об угощении Фиеста Атреем. Эгисф, известный убийца Агамемнона, сын Фиеста, говорит в одном месте этой драмы следующее:
«Отец его (Агамемнона), Атрей, царствуя в этой стране (в городе Микенах), прогнал из города и из (его собственного) дому своего брата, то есть, выражаясь точнее, моего отца, Фиеста, с которым он спорил из-за престола. Несчастный Фиест, возвратившись назад и прося помилования у очага, остался (правда) невредим, так что ему (самому) не пришлось тут же окровавить отечественную землю. Но (зато) Атрей, безбожный отец этого (Агамемнона), под предлогом торжественного жертвоприношения, предложил моему отцу с услужливостью, правда, но не по-дружески, мясо (его собственных) детей в виде угощения. Оконечности рук и ног он ломал (ел сам?), сидя у верхней части (стола). Не знающий же (об этом Фиест) брал те части, по которым нельзя было узнать (что это человеческое тело) и ел пищу, принёсшую, как видишь, несчастье всему роду». [781]
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу