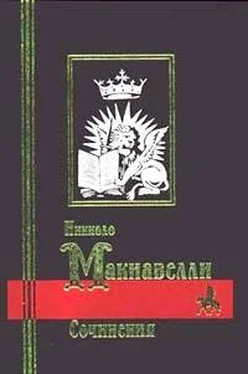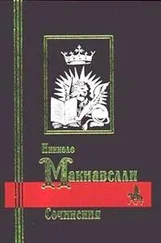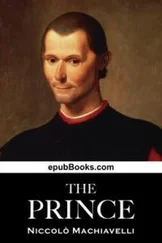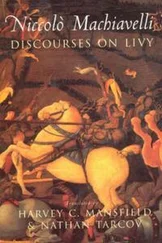Тому, кто силой овладевает государством, Макиавелли обещает не только «амнистию», но и славу — лишь бы ему удалось упорядочить государственные дела.
«Пусть помнят те, кому небо дарует сию возможность, что перед ними открыты два пути: один путь ведет к спокойной жизни и славе после смерти, второй сулит жизнь, полную тревог, а после смерти — вечное бесчестье».
Стало быть, он призывает человека — избранника Неба, который исцелил бы Италию от ее ран, «положил бы конец разграблению Ломбардии, поборам в Неаполе и Тоскане, излечил бы давно загноившиеся язвы». Это давняя мысль о спасителе, о мессии. Данте тоже призывал политического мессию, Вельтро. Но в глазах Данте — гибеллина — спасителем Италии был Генрих Люксембургский, ибо он мыслил свою Италию как сад империи; по идее Макиавелли спасителем Италии должен был стать один из итальянских князей, ибо в его представлении Италия была самостоятельной нацией и все, что находилось за ее пределами, «по ту сторону гор», было чужим, варварским.
Кто хочет ознакомиться с развитием итальянского духа от Данте до Макиавелли, пусть сравнит проникнутую мистицизмом и схоластикой «Монархию» Данте с современным по своим идеям и по форме «Князем» Макиавелли. Правда, идея Макиавелли оказалась такой же утопией, как и идея Данте. И сегодня нетрудно установить — почему. Слова «родина», «свобода», «Италия», «добрые порядки», «доброе оружие» были для народа, в толщу которого еще не проник луч образования и культуры, пустым звуком. Люди из культурных слоев общества давно ушли в частную жизнь: они либо пребывали в идиллическом состоянии бездействия, либо предавались литературным занятиям и были космополитами, жившими общими интересами искусства и науки, не имеющими родины.
Эта Италия любителей изящной словесности, людей, либо принимавших поклонение, либо поклонявшихся, утрачивала свою независимость, сама того, по-видимому, не замечая. Иноземцы поначалу испугали ее своей свирепостью, жестокостью своих поступков, а потом, подольстившись к ней, то и дело подчеркивая свое к ней почтение и восхваляя ее мудрость, склонили на свою сторону.
Итальянцы, утратив свободу и независимость, устами своих поэтов еще долгое время продолжали вспоминать о былой славе, хвастаться тем, что они — властители мира.
Конечно, ненависть к чужеземцам жила в их сердцах, так же как и стремление от них избавиться. Но воля была так слаба, что за весь этот период не было ни единой попытки предпринять что-либо для освобождения Италии. Даже Макиавелли ограничился изложением своей идеи; нам не известно, чтобы он предпринял для ее осуществления что-либо серьезное, помимо написания этой замечательной книги, выдержанной в возвышенном, поэтическом тоне, ему не свойственном и продиктованном скорее порывом его благородного сердца, нежели спокойной убежденностью политического деятеля. То были лишь иллюзии. Думая об Италии, он в какой-то степени принимал желаемое за действительное. То, что он питал эти иллюзии, делает ему честь как гражданину. Заслуга его как мыслителя состоит в том, что, создавая свою утопию, он основывался на реальных и постоянных факторах жизни современного общества и итальянской нации, на тех факторах, которым предстояло развиваться в более или менее близком будущем, писателем предугаданном. То, что сегодня было иллюзией, завтра стало реальностью.
То обстоятельство, что Макиавелли при всей своей опытности и наблюдательности предавался иллюзиям, отнюдь не должно вызывать удивления: в его натуре было много поэтического.
Вот он сидит в остерии и играет с трактирщиком, мельником и двумя булочниками в «крикку» или «триктрак».
«За игрой вспыхивают препирательства и перебранка, мы воюем из-за каждого куаттрино (гроша), и крики наши доносятся до самого Сан-Кашано».
В этом много плебейского. Но зато дальше, комментируя свои слова, Макиавелли глубоко поэтичен:
«Окунувшись в эту плебейскую атмосферу, я очищаю мозг свой от плесени и даю волю злой моей судьбине: пусть она топчет меня, а я погляжу, неужто не сделается ей стыдно».
А вот он один, в лесу, с томиком Петрарки или Данте, дает простор «вольным мыслям», фантазирует, плывя по волнам воображения:
«Когда наступает вечер, я возвращаюсь домой и вхожу в свою рабочую комнату. На пороге я сбрасываю с себя пыльную, грязную крестьянскую одежду, облачаюсь в одежды царственные и придворные. Одетый достойным образом, я вступаю в античное собрание античных мужей. Там, встреченный ими с любовью, я вкушаю ту пищу, которая уготована единственно мне. Там я не стесняюсь беседовать с ними и спрашивать у них объяснения их действий, и они благосклонно мне отвечают. В течение четырех часов я не испытываю никакой скуки. Я забываю все огорчения, я не страшусь бедности, и не пугает меня смерть. Весь целиком я перевоплощаюсь в них».
Читать дальше