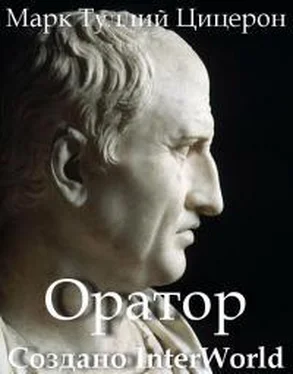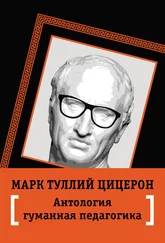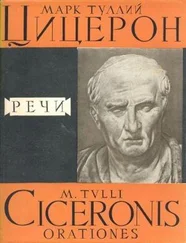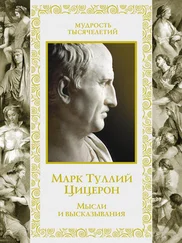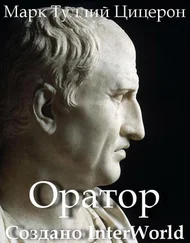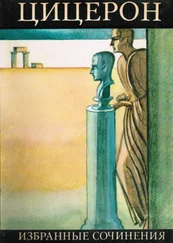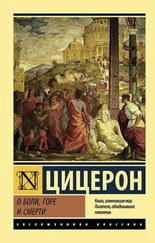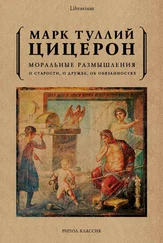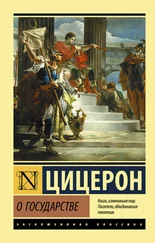Кв. Помпей Руф, действительно был в 91 г. городским претором (т. е. претором по разбору дел между гражданами; для разбора дел между гражданами и негражданами был другой претор). Процесс был между заимодавцем и должником–неплательщиком; долг должен был выплачиваться по частям, срок выплаты первых частей уже прошел, последних — еще нет; поэтому заимодавец должен был сделать в иске оговорку, что требует лишь ту сумму, «которой вышел срок»; если бы он этого не сделал, он проиграл бы, данный процесс из–за «превышения притязаний», а тем самым затруднил бы себе и повторение иска в дальнейшем. Поэтому в интересах должника было не напоминать противнику о необходимости этой оговорки; между тем, адвокат должника по невежеству решил, что эта оговорка выгодна именно должнику (меньше придется платить!), и настаивал на включении оговорки в обвинительный акт; т. е., как и в предыдущем казусе, думал не о том, как выиграть дело, а о том, как менее убыточно его проиграть.
О Публии Крассе Богатом см. Б, 98. Он был урожденным Сцеволой, братом Сцеволы–Юрисконсульта, и в семейство Крассов вошел по усыновлению. В каком родстве он находился с Крассом–оратором, неизвестно. Сын Сцеволы–Юрисконсульта, Квинт Сцевола–Понтифик, был коллегой оратора Красса почти во всех должностях; о нем см. Б, 306.
Нравственная и юридическая справедливость — aequitas и ius, дух и буква права, порой противоречащие друг другу.
Центумвиральные тяжбы — дела о собственности и наследовании, находившиеся в ведении суда центумвиров («ста мужей») — именно на них вырабатывались тонкости римского права. К ним относятся и «узаконения о давности» (о давности владения, которое с течением времени превращается в собственность), «об опеках» (над несовершеннолетними наследниками), «о родстве» (дающем право на наследование), «о намывных берегах и островах» (о приросте земельных владений в результате речных наносов), «об обязательствах и сделках» (относящихся к собственности), «о стенах, о пользовании светом, о капели» (случаи, когда человек, распоряжаясь только своей собственностью, наносит ущерб соседу: ломает или перестраивает пограничную стену, заслоняет ему вид своими постройками, размывает его землю капелью из своего водостока) и т. д.
Дело того воина — общеизвестный в Риме казус, еще через сто лет после Цицерона включенный Валерием Максимом в его сборник исторических анекдотов «Достопамятные дела и речи» (VII, 7, 1). Воин единогласно был признан наследником.
Дело между Марцеллами и патрицианскими Клавдиями — род Клавдиев был очень обширен и разветвлялся на несколько фамилий — патрицианских (Клавдии Пульхры, Клавдии Нероны и др.) и плебейских (Клавдии Марцеллы); каждая из этих фамилий чувствовала себя отдельным родом, а Марцеллы, плебеи, особенно. В фамилии Марцеллов был вольноотпущенник, получивший при отпущении, как было принято, родовое имя «Клавдий»; у вольноотпущенника был сын; сын умер, не оставив наследников; по закону его имущество переходило к членам его рода; спрашивалось, кого считать членами его рода — всех ли Клавдиев (как подсказывало его имя) или только Клавдиев Марцеллов? Так толкует ситуацию Уилкинс вслед за более старыми комментаторами; Пидерит и Зороф, чтобы объяснить притязания Клавдиев–патрициев, предполагает, что вольноотпущенник принадлежал к одной из патрицианских фамилий и лишь потом перешел в фамилию Марцеллов.
Изгнанническое право позволяло человеку, изгнанному из италийской общины, жить в Риме, если он найдет «условного покровителя» (quasi patronus) из римлян; отношения поселенца к покровителю были подобны отношениям клиента к патрону, но до какой степени — оставалось неясным; в данном случае спор шел о том, мог ли покровитель наследовать бездетному поселенцу, как наследовал патрон бездетному клиенту?
Процесс Ораты и Гратидиана подробнее описан в сочинении Цицерона «Об обязанностях», III, 16, 67. У Ораты был дом, но некоторыми частями этого дома он не мог свободно пользоваться, так как это наносило ущерб соседям (портило смежные стены, затеняло их участки, размывало их землю водостоками и пр.). Этот дом купил у него М. Марий Гратидиан (внучатный дядя Цицерона с материнской стороны), а потом, спустя немного времени, продал ему же обратно; при этом в договоре о продаже он не сделал оговорок о неполном пользовании частями дома, справедливо полагая, что Ората, прежний владелец, сам отлично знает об этом. Однако Ората решил на этой небрежности поживиться и подал на Гратидиана в суд, как если бы тот злонамеренно скрыл от него «условия, стесняющие пользование продаваемой собственностью». Орату защищал Красс, Гратидиана — Антоний; понятно, что Крассу приходилось напирать, главным образом, на букву договора, а Антонию — на смысл всей ситуации (контроверсия «закона» и «справедливости»).
Читать дальше