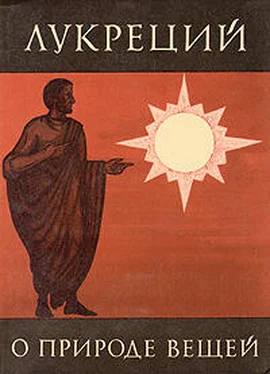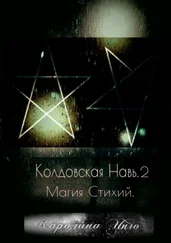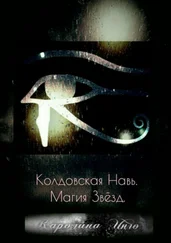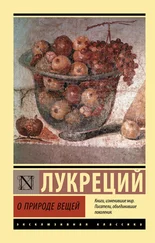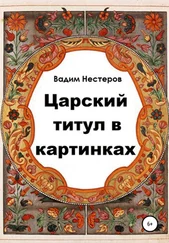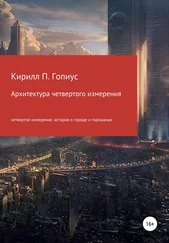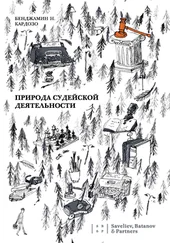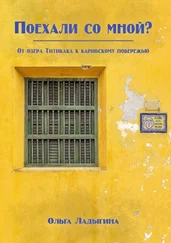Поэт объявляет себя слабым подражателем Эпикура (как ласточка, которая стала бы тягаться с лебедем в мощном размахе крыл и силе полета), но только в мудрости, — в поэзии он смело прокладывает путь среди бездорожного поля, срывает цветы, которых нет и не было в венке какого-либо из поэтов. При всем своем почтении к священным высказываниям Демокрита, к вдохновенным пророчествам Эмпедокла, к славе Энния, отца римской поэзии, Лукреций вполне справедливо ощущает себя творцом нового, небывалого и великолепного создания — такой поэмы о природе вещей, где отразилась бы вся мудрость свободного греческого духа, воспринятая сознанием римлянина с дальнего расстояния как единство, в котором порой теряются различия и противоборства отдельных догматов, как видятся единым сверкающим пятном на склоне горы два столкнувшихся в ожесточенном сражении войска.
Когда над землей низко нависали тучи невежества и единственным прибежищем умов была религия, когда все ужасные явления природы — громы и молнии, смерчи и землетрясения, засухи и болезни, люди приписывали гневу и могуществу богов (не ведая ни природы вещей, ни истинной природы божественности) и жили в постоянном страхе, — впервые человек Греции осмелился высоко поднять голову, взглянуть поверх устрашающего лика религии, проникнуть взором в светлые выси неба, — он увидел там размеренное движение небесных светил, сверху окинул взглядом землю, постиг причины небесных и земных явлений, движущие силы природы и конечные пределы каждой вещи. Греки попрали религию, и мы вознесемся до неба, если последуем их примеру.
Честный римлянин может испугаться такой дерзости, — привыкший к ежедневному ритуалу благочестия, творимого с покрытой головой и опущенными очами, он подумает, пожалуй, что его вовлекают в преступное сообщество. Но нет преступления страшнее невежества, особенно соединенного с религиозным пылом и рвением — вспомните жертвоприношение Ифигении: за что погибла юная девушка? Чтобы ветер переменил направление? Если бы вождям, собравшимся в Авлиде, известны были причины образования ветров, их обычные направления и условия их перемены, кто подумал бы совершать это бессмысленное злодеяние! А разве в наши дни религия перестала требовать человеческих жизней?
Чем питается религия в человеческих душах? Страхом смерти и еще большим страхом бессмертия души в загробных мучениях, так красочно расписанных в эпических сказаниях. Страх этот может изгнать из души только знание природы вещей, строения вселенной, где нет места царству мертвых, и знание природы души, ее материальной структуры и, наконец, ее смертности, — знание, может быть, не очень утешительное, но необходимое для жизни счастливой и справедливой (заметим: как будто Эпикура слова, но тон совсем иной, обращенный к жизни, а не отвращенный от смерти).
Римляне считали себя потомками Энея, гомеровского героя, воспетого в «Илиаде», где матерью Энея называется сама богиня Афродита. Чтобы представить себе существо римской поэзии вообще и поэтики Лукреция как ее первого энергичного выразителя в частности, достаточно проследить хотя бы, какими многообразными смыслами наполняет поэт сравнительно короткое вступление к своей поэме сугубо философского содержания. «Вы, что считаете себя потомками воинственного Энея, вспомните, что матерью Энея была Венера, благая Венера, подательница жизни для всего живущего, источник юной силы, свежести, веселья, наслаждений. Все радуется Венере, светлеет небо с ее появлением, разбегаются тучи, стихают ветры, улыбается море, сияет солнце, зеленеют травы, щебечут птицы; дикие звери и мирные стада — все опьяняются любовью, все устремляются к продолжению рода, к обновлению жизни. Природой вещей правит Венера, и вы, ее дети, оглянитесь и вспомните, что все живое на земле — одна большая семья, — помоги мне, Венера, — помоги внушить им желание мира, успокой воинственные страсти, позволь им отдохнуть от ратных забот и предаться тихой радости познания, пошли мне наслаждение творчества, сообщи прелесть моим стихам, — ведь ты одна умеешь смирять свирепое буйство Марса, в твоих объятиях и он способен смягчиться, — вымоли у него мира для римлян: ведь боги проводят свои бессмертные годы, наслаждаясь глубочайшим миром, не ведая никакой нужды, ни страха, ни скорби, недоступные ни корысти, ни гневу, — и властью своей и примером внуши этим людям желание мирной отрады».
Можно считать, что здесь философ-материалист, страстный противник официальных и неофициальных религиозных культов, отдает дань эпической традиции, но ведь традиционный эпический прием воззвания к божеству в начале поэмы обращен на пользу материалистической философии — как-никак, на гомеровском Олимпе не Афродита была главным божеством, а тут она одна-единственная правит кормило природы вещей, это уже и не богиня вовсе, а любовь, царица рождений, смиряющая вражду и погибель — как воспоминание о поэме Эмпедокла, — но она и божество, ибо у эпикурейцев были свои боги — совершенные, полувоздушные, беспечальные, но Венера здесь и мать Рима, любезная отчизна, которую он призывает смирить кровожадную дикость внутренних и внешних войн, наконец, это еще и прекрасная женщина, обольстительный образ любовных наслаждений, блаженной радости на лоне мирной и счастливой природы, противостоящий заботам общественной жизни, как военным, так и не военным — вот уж где поистине неисчерпаемая глубина, а внешний риторический прием, здесь использованный, предельно прост: несколько раз одно значение имени «Венера» незаметно подменено другим, вследствие чего одна область ассоциаций накладывается на другую, все смыслы размываются, становятся прозрачными, просвечивают один сквозь другой; но вместе с тем с первых же строк поэмы читатель приготавливается к тому, что накладываться друг на друга и просвечивать одна через другую будут разнообразные области человеческого бытия: умозрительная природа вещей и чувственные образы реальности, общественная жизнь и мифические предания, внутренний мир души и волнения природных стихий, знание и опыт, наблюдательность и воображение, проницательность и остроумие.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу