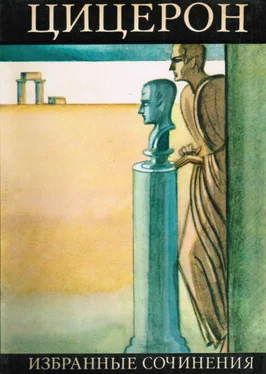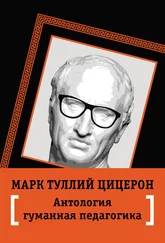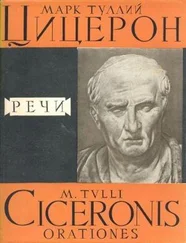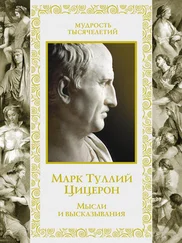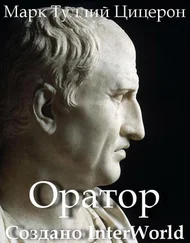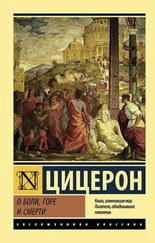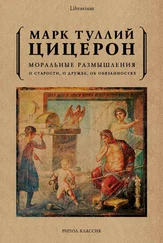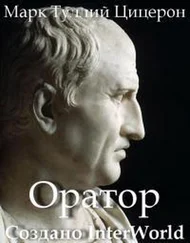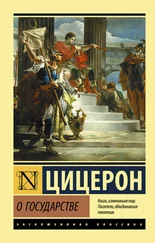Цицерон изо всех сил пытался слушаться этих советов — лавировал между Цезарем и Помпеем, произносил речи в защиту тех, кого раньше публично осуждал, непрерывно напоминал о своих былых заслугах, мечтал добиться триумфа за свои ничем не примечательные военные действия в Киликии, писал Целию, что с пантерами плохо, но он постарается.
И тем не менее между ними и Цицероном пролегал невидимый и непреодолимый рубеж.
Со своей старомодной глубиной мышления и стеснявшей людей образованностью, со способностью и умением постоянно видеть за хроникой жизни историю, Цицерон этих лет, несмотря на всю суетливую суетность, всю обходительную податливость и деловую ловкость, оставался для большинства окружающих раздражающим и неприятным, человеком чужой, неудобной формы. В нем было что-то не сводившееся к словам и поступкам, некоторая проявлявшаяся вопреки всем намерениям основа личности, и из стремления быть «как все» ничего не получалось. Наместничество было общепринятым способом обогащения — из подвластной провинции деньги выжимались в почти неограниченном количестве. Враг Цицерона историк Саллюстий писал книги о прискорбном упадке нравственности и после управления провинцией вернулся в Рим миллионером. Цицерон трусил, приспосабливался, жаловался — и не вывез из Киликии ни одного асса. Он выполнял поручения Целия, называл Куриона «нашим», роднился с Долабеллой — и исподволь, неуклонно сближался с будущим тираноубийцей Брутом, который все больше становился для него идеалом и образцом, центральным образом его поздних произведений. Уезжая к Цезарю, Целий пришел к Цицерону, рассчитывая, что тот даст ему полезное рекомендательное письмо, — напомнит о расстроенном состоянии молодого человека, посоветует выдвинуть его на выгодную должность. Цицерон письмо дал, но говорил в нем не о долгах Целия, а о судьбах государства.
Это была тема, преследовавшая его постоянно. «Положение государства меня чрезвычайно тревожит. Я расположен к Куриону, Цезарю желаю почестей, за Помпея готов умереть. Но нет для меня ничего дороже государства». Рубеж, отделявший Цицерона от его времени и от его круга, проходил здесь. Все его попытки стать «как люди» были обречены потому, что он внутренне ни на минуту не расставался со своим образом республики и культуры, с образом своего Рима. Образы эти все больше отдалялись от повседневности, от политической практики, становились все более духовными, отвлеченными, философскими. В тускуланские годы Цицерон мало выступает как оратор и посвящает почти все время и силы сочинениям по истории красноречия, теории ораторского искусства и философии.
Задача, которую Цицерон поставил перед собой в философских произведениях этого периода, состояла в том, чтобы изложить на латинском языке содержание и выводы основных направлений греческой философии, а затем, как он выражался, «улучшить и усовершенствовать» их в свете римского исторического опыта. Осуществлению первой ее части посвящены пять сочинений этих лет: «Академические исследования», «О границах добра и зла», «О природе богов» (все написаны в течение весны и лета 45 г.), «О предвидении» и «О судьбе» (весна и лето 44 г.). В них Цицерон не солидаризируется до конца ни с одной из школ, воззрения которых он передает, так как истина, по его мнению, вообще не может быть монополизована ни одной системой теоретических взглядов и всегда проверяется намерениями, характером и результатом деятельности людей, данную истину защищающих. Истина, другими словами, по природе своей носит моральный характер. Поскольку же для Цицерона мораль всегда общественна и состоит в соответствии римскому гражданскому идеалу, то момент критики и переосмысления эллинских учений содержался уже в самом их изложении. Непосредственно, однако, второй из поставленных им перед собой целей Цицерон посвятил особую группу сочинений — своеобразную тетралогию, созданную в последние годы жизни и как бы венчающую все его философское творчество. В центре ее стоят диалоги «Катон, или О старости» и «Лелий, или О дружбе», оба написанные в 44 году; их предваряют «Тускуланские беседы» (осень 45 г.) и заключает трактат «Об обязанностях» (начало 43 г.).
Все в этих сочинениях примечательно и неповторимо. Это книги ученого интеллигента, всю жизнь читавшего греческих авторов, размышлявшего над ними, и учения стоиков и эпикурейцев, академиков и перипатетиков всегда присутствуют здесь в тексте и в подтексте. И в то же время — это книги римского государственного деятеля, где философия постоянно переходит в политику и греческое умозрение неотделимо от жгучей римской злободневности. Удивительны их темы, вырастающие из философско-исторической проблематики, но связанные с самыми личными, глубоко интимными переживаниями и отношениями, и не менее удивителен их жанр, в котором слиты воедино трактат, эссе, драма, бытовые зарисовки и воспоминания.
Читать дальше