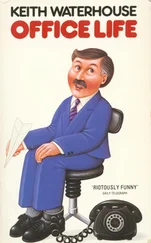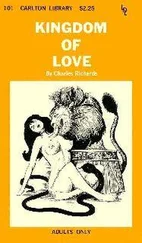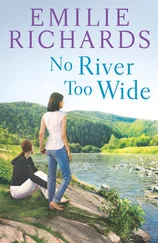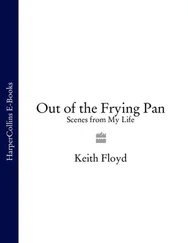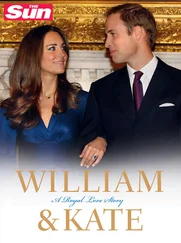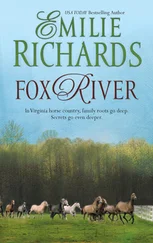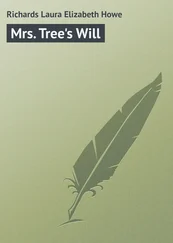Тони держал в Лондоне подпольное казино, куда после работы ходили испанские официанты. Он сбывал дурь и вел гангстерскую жизнь, разъезжая на своем Jaguar, двухцветной, «заделанном» по всем сутенерским понятиям. У его отца был знаменитый итальянский ресторан в Мейфэре. Тони-Испанец, крутой пацан. «Бац-хрясь» — из этой колоды. Классный был парень, пока не скурвился. Его проблемой, как и у многих других, было то, что нельзя оставаться таким крутым и одновременно торчать. Эти две вещи вместе не уживаются. Если хочешь быть жестким чуваком, хочешь уметь быстро соображать и всегда быть наготове — что у Тони какое-то время получалось, — тема дури для тебя закрыта. Дурь будет тебя тормозить. Если хочешь барыжить — окей, раз так, значит, так, но пробовать товар — ни в коем случае. Поставщик и потребитель — большая разница. Дилеру нужно всегда играть на опережение, а иначе поскользнешься и покатишься, и как раз это с Тони и случилось.
Пару раз Тони меня подставлял. Без моего ведома, я узнал только потом, он использовал меня как водилу для отхода при налете на ювелирную лавку в Берлингтонском пассаже. «Слушай, Кит, мне тут Jaguar подогнали, не хочешь попробовать?» На самом-то деле им были нужны «засвеченная машина и незасвеченный шофер. И Тони явно похвастался этим чувакам, что я неплохо вожу ночью. Так что я торчал неподалеку, поджидая Тони и не подозревал, что происходит. Хороший был корешок Тони, но подгадил мне не раз.
Еще один хороший знакомец — Майкл Купер, с ним мы тоже постоянно околачивались. Первоклассный фотограф. Он был способен тусоваться сутками и употреблять мешками. Единственный известный мне фотограф, у которого реально дрожали руки во время съемки, но все выходило как надо. «Как это у тебя получилось? У тебя же руки тряслись? Это ж должен был выйти не снимок, а одна размазня». — «Просто надо знать, когда нажимать». Майкл во всех подробностях зафиксировал первые этапы Stones, потому что снимал не переставая. Для Майкла фотография стала образом жизни. Его абсолютно захватывало создание картинки — можно даже сказать, он был в плену у картинки.
В чем-то Майкл был порождением Роберта. У того имелись наклонности гуру, и Майкл привлекал его массой всяких своих черт, но особенно Роберт ценил в нем художника и потому продвигал как мог. Майкл служил нам всем связующим звеном. Он был как клей между разными слоями Лондона: и аристократами, и урлой, и всеми остальными.
Когда принимаешь столько, сколько принимали мы, всегда будешь разговаривать о чем угодно, только не о своей работе. Это значило, что мы с Майклом обычно сидели и трепались об особенностях разной дури. Два торчка, вычисляющие, как бы словить приход покруче без особых последствий для здоровья. Ничего про «офигенную вещь», которая у меня в работе, или у него в работе, или все равно У кого. Работа побоку. Я знал, как он вкалывает. Он был маньяк-трудоголик, такой же, как я, но это как бы подразумевалось.
С Майклом была еще одна фигня — временами на него накатывала глубокая, страшная депрессия. Беспросветная чернуха. Кто бы мог подумать — этот поэт объектива был сделан из совсем хрупкого материала. Майкл потихоньку сползал за пределы, откуда никто не возвращается. Но пока что мы держались бандой. Не в смысле, что ходили на дело и все такое, а в смысле элитного кружка для своих. Выпендрежники и возмутители спокойствия — что уж скрывать, — переходившие все границы просто потому, что так было нужно.
Про кислоту на самом деле ничего особенно не расскажешь, кроме «Блин, вот это трип!». Нырнуть туда — это сделать шаг наугад, шаг в неизведанное. 1967-й и 1968-й здорово перетряхнули ощущение происходящего, было много неразберихи и много экспериментов. Самое восхитительное мое кислотное воспоминание — это птичий полет, когда я видел птиц, которые летели и летели прямо у меня перед глазами, стаи райских птиц. Несуществующих, естественно,— в реальности это была листва дерева, которую колыхал ветер. Я гулял по проселочной дороге, листья были ярко-зелеными, и мне было видно практически каждое движение крыльев. Я замирал все сильнее и в какой-то момент уже был готов сказать: «Блин, я же тоже так могу!» Вот, кстати, почему я понимаю, когда кто-то выпрыгивает из окна. Потому что вся картина того, как это делается, вдруг становится абсолютно ясна. У птичьей стаи ушло примерно полчаса, чтобы пролететь перед моими глазами, — невероятное порхающее облако, в котором мне было видно каждое перышко. И они смотрели на меня все это время, как бы говоря: «Давай, попробуй тоже». Эх... Ладно, все-таки есть что-то, что мне не дано.
Читать дальше