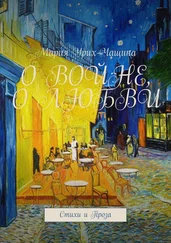«Вот что, девоньки, хотите принести пользу фронту, отправляйтесь сейчас в военный госпиталь и разузнайте, нужна ли там ваша помощь. Все, идите».
В госпитале нужды в нас пока не было, и нас отпустили домой, пообещав, что как только мы понадобимся, нам дадут знать.
К слову, нам повезло больше, чем мальчишкам, с которыми я выпускалась. Их призвали в тот же день, но мы их, конечно же, не видели. Их было семнадцать. Ребята, полные надежд на будущее, но и решимости, что они на это будущее смогут повлиять. Ни один из них не знал, как обращаться с оружием – в школе их учили быть предупредительными кавалерами и вести своих дам на танец. Их не учили держать гранаты, разбирать и собирать винтовки, быстро реагировать на воздушную тревогу, зарываться в окопы. Они умели защищать свои точки зрения, изучая научные теории. Но не умели защищать свою собственную жизнь.
Чуть позже их родители получат на руки повестки – выдернутые из школьных тетрадок листы, в виде треугольников: «погиб смертью храбрых» или «пропал без вести». Но в основном получали первый вариант. Говорят, ребята в первую же неделю попали в окружение, из которого пути назад не было. Их было семнадцать – всего-то семнадцать из двадцати растерзанных миллионов, но таких близких, милых и до боли беззащитных. И им навсегда останется по семнадцать…
Вскоре появились вести из госпиталя: привезли первых раненых. Стоял жаркий июль, в другие времена мне бы радоваться каникулам, а я добровольно отдалась в санитарки, хотя понятия не имела, что и как делать. Сокурсниц своих я там не встретила, но скучать мне не давали.
Сначала в мои обязанности входило кормить раненых. Кому-то из них хотелось выговориться, и они рассказывали, кто про свои семьи, оставленных родителей или невест, а кто про саму войну. Контуженные ничего не рассказывали, многие из них продолжали воображать себя на поле боя и орали на всю палату благим матом.
Потом я начала выполнять мелкие поручения: кому-то письмо написать, кому-то судно подставить. Ни лекарств, ни бинтов не хватало, и я взвалила на себя еще одну обязанность – стирать бинты, пропитанные кровью и гноем. Сначала было страшновато и немного противно, ведь все приходилось делать руками, но вскоре я и к этому привыкла.
Сашу моего тоже призвали. Правда, для начала его направили на восток, на обучающие курсы, чтобы он не стал очередным пушечным мясом, как это происходило по первóй с новобранцами. Мы попрощались долгим поцелуем и заручились обещанием, что будем ждать друг друга, где бы ни находились.
Тем временем, вести с фронта приходили неутешительные: враг приближался, а наша армия терпела ужасные потери. Слово «потеря» – единственного числа, сухое и казенное, а вмещает в себя горе тысяч, сотен тысяч семей, оставшихся без сыновей, мужей и отцов. Постепенно страшная реальность начала доходить до нашего сознания – нам тоже может прийти конец, и в самое ближайшее время.
На второй курс я не пошла, об этом не могло быть и речи. Я каждый день бегала в госпиталь, а отец все больше утверждался в мысли: надо бежать. Мама Лиза поначалу пыталась отговорить его от этой мысли: как же, мол, дом, такой уютный и родной, выстроенный своими руками? Сад, скотинка, кошка с собакой? Куда нам бежать? Кто нас ждет? Как нам все это бросить? Жалко. Нам же негде будет жить. Страшно.
Отец вдруг проявил несвойственную ему упертость и твердо стукнул кулаком по столу: «Лизонька, очнись, о чем ты? Нам бы себя спасти. Детей. Внуков. У Бэлки вон третий на подходе. А ты про скотинку беспокоишься. Ну лишимся мы этого дома, так другой выстроим. Ты все еще питаешь надежду, что все обойдется? Зря! Не немцы достанут, так свои сдадут, мы же евреи, забыла?»
И это была страшная правда. Милости нам ждать было неоткуда, разве что от Бога, но в него официально никто не верил. Вообще-то отец ходил тайком в закрытую синагогу. Закрытую, потому что про нее, кроме людей ограниченного круга, никто не знал. Там он молился, соблюдая традиционные иудаизму ритуалы, возвращался домой с мацой* (бездрожжевые плоские, пресные лепешки, символизирующие исход из Египта – освобождение из рабства), завернутой в тряпье, чтобы никто не заподозрил, куда он ходил поздней ночью. Но находясь в отдалении от дома, на строительных работах, про свое еврейство он, естественно, не вспоминал.
Мое соприкосновение с религией было еще более поверхностным: я несколько раз бегала в красивую, всю отделанную золотом, церковь. Песнопения хора захватывали душу и пробуждали неведомые чувства. По праздникам в церкви было особенно оживленно, и моя подружка все повторяла: «как же мне нравится тот парень, вон посмотри, во втором ряду. Какой у него божественный голос… Вот только бородку бы эту ужасную повыдергать, да обрить его».
Читать дальше
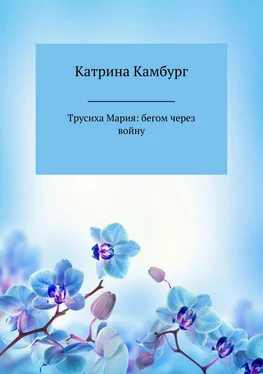



![Мария Архангельская - Пес войны [СИ]](/books/419260/mariya-arhangelskaya-pes-vojny-si-thumb.webp)