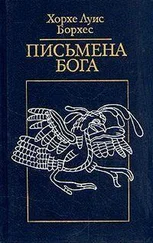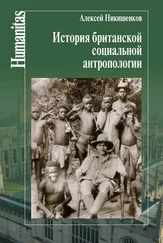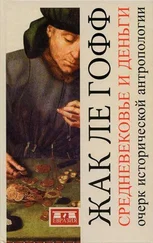Вернёмся к тому аргументу, который я привёл в предыдущей части. Я попробую объяснить, почему считаю его верным.
Довольно короткий манифест о концепции революции
Слово «революция» так беспощадно опошлено в повсеместном использовании, что теперь оно может значить что угодно. Теперь мы можем наблюдать революции каждую неделю: банковские, кибернетические, медицинские, интернет-революции, или когда изобретают новую хитроумную программу.
Этот вид риторики возможен лишь потому, что распространённое значение революции всегда подразумевает что-то вроде смены парадигмы: очевидный перелом, фундаментальный прорыв в природе социальной реальности, в результате которого всё начинает действовать иначе, и старые категории уже не подходят. Вот что позволяет сказать, что современный мир является продуктом двух революций — французской и промышленной, несмотря на то, что у них нет ничего общего, кроме того, что обе ознаменовали прорыв, по сравнению с тем, что было до них. Единственным странным результатом этого является, по словам Эллен Мейксинс Вуд,8 то, что мы привыкли рассуждать на тему «современности» так, словно она включает в себя английскую экономику laissez-faire 9 и французское республиканское правительство, в то время как эти две вещи никогда не сосуществовали вместе: промышленная революция произошла под давлением странной, устаревшей, во многом средневековой английской конституции, а экономика Франции в XIX веке была какой угодно, но не laissez-faire.
Былая привлекательность Русской революции для «развивающихся стран», как кажется, проистекает из того факта, что она являет собой единственный пример, совмещающий обе разновидности революций: захват государственной власти, впоследствии приведший к стремительной индустриализации. В результате в ХХ веке почти каждое правительство глобального юга, решившее сыграть в экономическую гонку с индустриальными державами, также должно было выдавать себя за революционный режим.
В основе всего этого лежит одна логическая ошибка, которая заключается в представлении, что социальные или даже технологические перемены принимают точно такую же форму, которую Томас Кун 10 обозначил как «структуру научных революций». Кун имеет в виду такие события, как переход от ньютоновской к эйнштейновской вселенной: внезапно происходит интеллектуальный прорыв, а затем вселенная уже иная. Применительно к сферам, отличным от научных революций, это подразумевает, что мир фактически соответствовал нашим представлениям о нём, и в тот момент, когда меняются принципы, лежащие в основе наших представлений, реальность тоже изменяется. Это всего лишь разновидность основной мыслительной ошибки, которую, по мнению возрастных психологов, мы должны преодолевать в раннем детстве, но, очевидно, немногие из нас её действительно преодолевают.
В действительности мир не берёт на себя обязательств соответствовать нашим ожиданиям, и поскольку «реальность» к чему-то относится, она относится как раз к тому, что никогда не может быть полностью охвачено нашими умозрительными построениями. В частности, совокупность всегда создаётся посредством воображения. Нации, общества, идеологии, замкнутые системы — ничто из этого в реальности не существует. Действительность всегда невообразимо более беспорядочна, даже если вера в их существование основана на неоспоримой общественной силе. Прежде всего, образ мышления, определяющий мир или общество как целостную систему (в которой каждый элемент приобретает своё значение только в процессе взаимоотношений с другими), как правило, почти неизбежно приводит к представлениям о революциях, как о разрушительных переломах. Потому что, в конце концов, как одна целостная система может быть заменена полностью другой системой, исключая разрушительный перелом? А значит, человеческая история становится серией революций: неолитическая революция, промышленная революция, информационная революция и т. д., а политической мечтой становится способность контролировать этот процесс, занять позицию, в которой мы способны инициировать подобный прорыв, переломный момент, который не просто наступит, но станет непосредственным результатом некой коллективной воли. Собственно говоря, «революцией».
Поэтому не удивительно, что в тот момент, когда радикальные мыслители поняли, что им нужно отбросить эту мечту, их первой реакцией стало удвоить свои усилия, чтобы показать, что революции всё равно происходят, вплоть до согласия с точкой зрения Поля Вирильо,11 согласно которой прорыв — это наше перманентное состояние, или с позицией Жана Бодрийяра,12 которая гласит, что мир теперь полностью изменяется каждые пару лет, всякий раз, когда у него появляется новая идея.
Читать дальше