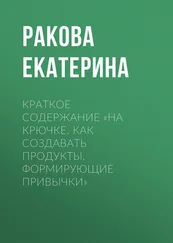Помнится, о том, что мой дядька жив, но искалечен и никому не хочет быть обузой, бабушке и мне рассказал прохожий солдат — не то с войны, не то из плена, а может, и из госпиталя или с того света. По всему, больной от войны, без живого места на нем, на костылях и в ржаво пропаленной шинельке. Я еще подумал, что на фронте, за его войну ему могли бы выдать пристойную, людскую шинельку, целую, угревную, сдерживающую его сухотный кашель, по крайней мере — не такую куцую. А то бабушке, чтобы хоть немного согреть его среди лета, пришлось теплить каминок. Утром солдат покинул нашу прокашленную хату. Мы провели его за околицу, до кладбища. Я боялся, сможет ли он пройти через него. Не останется ли навсегда на наших сельских могилках. Видимо, все же сил хватило, прошел. По крайней мере, на кладбище все оставались в своих могилах, похороненными, безмогильных не было.
А бабушка, сидя у окна, выходящего на дорогу, неутешно и подолгу плакала. Днем и ночью семьдесят пять лет ждала сына с войны, надеялась — жив. И сегодня, уже задним числом и умом, я думаю, не без оснований. Сердце матери вещее. А бабушка была не из простых бабушек-старушек. Меня она буквально вытащила с того света. И было это неоднажды и не только со мной. В деревне Анисовичи жизнью ей обязаны многие. Знала она и слово, и глаз имела, и рука у нее была легкая.
Я, чтобы как-то отвлечь и утешить ее, пытался заговорить, устно сложить что-то стихотворное. Читать, писать еще не умел и книги живьем не видел, но пыхтел, старался. И читал ей, читал вслух, может, и с выражением. Осиротевшая мать, и я возле нее, сирота. Словом, дом престарелых и малолетка, слегка, а может, и крепко тронутые. Но в этом старческом и детском безумии мы выживали. Бабушка, внимая мне, вытирала слезы, кивала головой, я воодушевлялся, набирал голос, размахивал руками и бегал из угла в угол по земляному полу. Помню, стихи были до невозможности героические.
Мне нравились. Но больше в своей жизни к сочинению их я не вернулся. А тогда обещал бабушке: немного только подрасту, выйду в люди, отыщу среди них ее сына, моего дядю, младшего лейтенанта Николая Говора, если он сейчас не генерал и пожелает с нами знаться. А неживого тоже найду, подниму с того света и на руках принесу в дом. А заодно уже призову с того света и свою маму с сестрой, которые разлучились со мной — сестра в три года, мама в двадцать пять. И мне, хотя и возле бабушки, горестно жить на этом, таком заплаканном, что и совсем уже не белом свете. Я искренне верил в возращение с того света моих родных. Эта вера в глубине моих неотмерших детских желаний и жгучих слез жива во мне и сегодня.
Бабушке за сына, младшего лейтенанта, живьем безымянно сгоревшего в танке, держава ежемесячно платила — как помню сегодня — по десять рублей. И это не только за одного сына, танкиста, офицера, а за всех десятерых детей, которых выносила, родила, подняла на ноги и пожертвовала миру и войне. По рублю за каждого ребенка. Один рубль даже лишний. Виновата, не могла она на него заработать своим изношенным телом. Но на ее столетние, считай, плечи легла дюжина сирот-внуков. А на десять рублей, отслюнявленных государством в то время, уже после денежной реформы 1947 года, она могла поиметь два килограмма — буханку черного хлеба. Это ежели в государственном магазине, а на базаре — кукиш, и без масла, разумеется.
В Пантеоне Славы среди фамилий на букву «Г» я искал имя своего дяди, Говора Николая из деревни Анисовичи на Домановщине гомельского Полесья. Который уже год искал и не находил. Хотя всякий раз надеялся, слышал, что списки погибших все время пополняются. Но, видимо, именами только документально подтвержденных покойников. Тем же, кто пропал без вести, чья жизнь пеплом развеяна по миру даже среди мертвых, тем более в Пантеоне Славы, нет места.
Проснулся я на Мамаевом кургане, конечно, не с парадной, а с тыльной его стороны, ранехонько. И солнце меня не очень опередило. Гомонливым и спелым августовским наливным яблоком покачивалось среди листьев деревьев и неба. Парило, будило и поддразнивало утро хлопотное птичье царство, пробовало его на зуб и крылом. Воздух был уже предосенне слоящимся, ломким и красочным. Немного даже излишне красочным, ярмарочно, балаганно ярким и пестрым. Но что-то еще с ночи мешало мне радоваться и дышать полной грудью. Нудило, угнетало какое-то неопределенное чувство вины.
Сначала я соотнес это с нашим вековым проклятием — болотным и трясинным ощущением вины в нас, задолженностью всему миру, столетия и столетия, с подачи соседей, старшего брата, низводящим нас, невылазно удерживающим на задворках, в болотах, лозах и хвойниках. Довели нас, и мы сами себя довели до того, что согласились: виноваты перед всем миром, собой и людьми виноваты. Потому первыми согласны и исчезнуть. Все люди вокруг нас жили, а мы медитировали, как медитируем и сегодня, утомленные и зачарованные искусительностью отечественных и заморских заклинателей змей.
Читать дальше



![Виктор Козько - На крючке [Рыбацкая повесть в рассказах]](/books/62444/viktor-kozko-na-kryuchke-rybackaya-povest-v-rasska-thumb.webp)