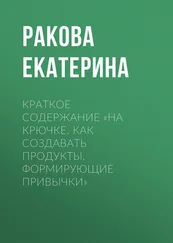Само собой, из смычки всех творческих союзов в единый ничего не получилось. Колхоз уже давно всем осточертел. Так уж заведено у творцов: им и двоим не сговориться. Пока не подойдет третий. А чтобы толпой всем талантам и гениям да в одно стойло — стаканов не хватит. Двум медведям в одной берлоге всегда тесно. А здесь все лебеди белые и белокрылые. Под ними только мелочевка пузатая — верховодки, ерши, щуки да раки. Бомжеватые писатели, от кочегаров не отличишь, ясное дело, больше похожи на раков: по норам прячутся. Богемно рафинированные музыканты, композиторы, скрипачи, пианисты во фраках и при бабочках, несомненно — лебеди белые. Как же их в один воз? Не получится ли из этого и вправду белорусский вариант автомата Калашникова?
Пустое было предложение и задумка с единым творческим союзом, заранее обреченная на провал. Вскоре земная неизбежность настигла и самого Анатолия Аникейчика. Безвременье безжалостно к искусству и мастерам. Художники разошлись по своим могилам.
Но в памяти занозой застряла, как это часто бывает в безладной суетности творческой жизни, не только великое и значительное — достойное фигуры художника и творца, а нечто мгновенно просверкнувшее, кажется, совсем несущественное, о чем лучше было бы и промолчать. Только кто знает, может, как раз именно это полнее и ярче рисует облик не только художника, но и человека. Звездную неповторимость его рождения. И его смерти. Запятые, черточки, точки и многоточия между этими двумя необратимыми явлениями.
Так в памяти моего сознания и подсознания отложились и слова, молвленные, кажется, между прочим. Про друзей и дружбу.
Совсем не новые, прописные. Но не все ли мы до конца наших дней пробираемся через подобные прописи, каждый раз звучащие как открытие. Не это ли зовется искрой Божьей — сохранением в человеке того, что суждено ему: осмысленно создавать и длить себя, когда он остается наедине с самим собой. Из-за отмашек самонадеянной молодости я воспринял это лишь ушами. Но будь благословенна заложенная в нас склонность и сила к возвращению. Повторению самих себя такими, какими когда-то уже были. С чем обращались до безобразия расточительно, надеясь на повторение, покаяние и раскаяние.
До прежней, сегодня уже затянутой коростой души нас подталкивает подсознательное желание, свойственное, наверно, и самому закоренелому злодею: быть и остаться породненным с этим миром. Близким человеку, природе, дереву, грибу, воде, рыбе. В ком или в чем, может, даже нет души, в чем я сомневаюсь, но есть одухотворение.
Постепенно мы начинаем понимать, что вроде совсем еще и не жили, а только праведно или неправедно — чаще неправедно — употребляли жизнь. Наслаждались подаренным или приобретенным и ворованным — чаще ворованными — мгновениями и часами удовольствий. Запасались впрок суетным обманом бытия, чтобы позже рассчитаться безнадежной тоской одиночества и разочарования.
Приспело, выползло из потаенного сумрака души, подобно лохнесскому змею, время явить себя, остановиться и оглянуться. Задуматься, что чего и сколько стоит. Перебрать вновь пройденное и избытое по уцелевшим остаткам памяти о прежней чистоте, невинности чуткой и сочувственной души. Пройтись снова по многообещающим стежкам твоего начала. Без стыда ступить в воду твоего прошлого. Хотя все тебе криком кричат, да и сам ты уже хорошо усвоил: дважды сделать такое невозможно. Врут. И сам себе ты врешь, привык к самообману.
В воде нет ни начал, ни концов. Она от земли и неба, из бесконечности мироздания. И ты оттуда. Только сейчас брезгуешь собой настоящим, уже нечистым. Испоганился в подслащенных водах собственного благополучия. Но отвергая и не признаваясь даже себе в этом, ты будешь до своей последней минуты тосковать и завидовать голодному и голому, замурзанному хлопчику в водах реки вечности. И это бессмертно в тебе. Боль и горечь познания себя.
Именно в такие минуты многие из нас впервые понимают, что такое бессонница. Те, кто еще не окончательно проспали и приспали себя. В их ночах просыпается знание того, что они так мизерно мало имели дружественных дней. Потому что жадно и хищно берегли себя, ни с кем по-настоящему, до донца, не делясь. Вырвали, потеряли свой третий глаз — порвали с небом и землей.
И ничего тут уже не попишешь. Человек уже давно не видит и не слышит себя в собственном доме, среди травы, воды и леса. Наедине с птицей, зверем, грибом и собственной совестью. Не виртуальных, интернетно-компьютерных, а во плоти и крови, хотя, как ему кажется по его убогости, неодушевленных. Тут он, может, и прав. Забыли, как это смотреть в самих себя, в глаза своей души, не поганя ее. Потому она сегодня такая и неприкаянная, поверженная и поврежденная. Нет ей покоя. Ушло то, с чем приходили и уходили наши деды и прадеды. О чем догадывались еще наши родители. А мы...
Читать дальше



![Виктор Козько - На крючке [Рыбацкая повесть в рассказах]](/books/62444/viktor-kozko-na-kryuchke-rybackaya-povest-v-rasska-thumb.webp)