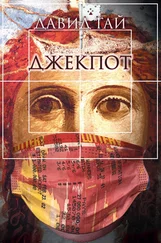Внук изредка посещал мастерскую деда, окунался в запахи краски, дерева, морилки, бродил среди естественного беспорядка – мольбертов, этюдников, подрамников, картин на треногах, простых и дорогих рам. Леонид Генрихович обожал внука, рисовал его, с трудом заставляя позировать. Лёня-младший мог делать в мастерской что заблагорассудится, единственно дед до поры до времени запрещал рыться в кладовке, где прятались рисунки и картины маслом обнаженных натур, но потом и этот запрет был снят.
Личная жизнь деда была за семью печатями. Рано лишившись супруги (Лео не застал ее в живых), он не женился, так и куковал один, о возможных интимных связях деда в семье умалчивалось, разумеется, они имели место, но внук ничего о них не знал, да это его особо не интересовало. Гораздо важнее была реакция деда на споры второго и третьего поколения: несколько раз оказываясь свидетелем наскоков внука на сына, Леонид Генрихович отмалчивался, изредка позволял себе ни о чем не говорящие реплики, однако Лео нутром чуял – дед на его стороне. С отцом Лёни у деда отношения были, по его шутливому выражению, как у Герцена с Огаревым – вежливое рядом. Взаимные любовь, тепло и понимание меж ними присутствовали в микродозах, словно в гомеопатии. Дед наблюдал болезнь и терзания невестки и во многом винил в этом сына, разумеется, будучи осведомлен о его любовницах. Лео давно смирился с мыслью, что в их семье все шиворот-навыворот.
15
Однажды Леонид Генрихович попросил Лео о срочной встрече. “Что-то важное?” – “Да, очень”.
Внук взял на работе отгул и приехал к деду в мастерскую, пребывавшую в хаосе и запустении – дед ввиду нездоровья почти не рисовал, в мастерской бывал редко, внутри всё покрылось слоем пыли. Леониду Генриховичу перевалило за восемьдесят, выглядел неважнецки, передвигался с палочкой, мелкими осторожными шашками, как слепой. Поймав сострадающий взгляд внука, он тяжело вздохнул, грузно сел в старинное резное кресло из орехового дерева с пружинами и красивой обивкой в цветочном орнаменте, отчего оно издало скрипяще-жалобный звук, Лео почудилось – скрипело не дерево, а нутро деда.
– Не так ли я , сосуд скудельный , дерзаю на запретный путь ? – произнес дед и попытался улыбнуться.
Он и впрямь был слаб – в самом деле сосуд скудельный. Когда-то богатая, яркая, будто выкрашенная охрой, шевелюра с трудом напоминала прежнюю, оставшиеся волосы поблекли, ушли в седину, веснушки стали менее заметны, многие погасли или превратились в точки цвета корицы. Рыжизной Лео пошел в деда. В лице Леонида Генриховича запечатлелась беспомощность и прежде не ведомая внуку опасливость движений: дед, опираясь на палку, приноравливался, примеривался, прежде чем сделать шаг. Он не болел, а медленно угасал, как пламя догорающей свечи.
– Что случилось, дед?
– Вчера и сегодня ничего не случилось. Случилось полвека назад, мне было столько годов, сколько тебе сейчас.
– Почему ты решил вспомнить? И меня вызвал. Это имеет отношение ко мне?
– Не знаю. Может быть… Ты, Лёнечка, единственный в нашей семье, кому могу рассказать о своем позоре. Да, позоре. До сей поры держал это в строжайшей тайне. Недолго осталось коптить небо, потому хочу, чтобы ты знал.
Лео понял: дед готовится к исповеди. Позор… О чем пойдет речь? Бедный дед, что могло с ним приключиться…
Леонид Генрихович попросил стакан воды, поставил на журнальный столик возле кресла и заговорил будто не своим, тихим, изнеможенным голосом, каждое слово давалось ему с усилием.
Начал он Ab ovo – подробно описал тогдашнюю мастерскую (с той поры сменил ее дважды, расширив пространство), в середине семидесятых она использовалась не только по прямому назначению, но служила желанным, манящим местом посиделок, пьянок, пристанищем свободной любви хозяина и близких друзей; собиралась здесь разномастная публика, не только живописцы, но и журналисты, писатели, музыканты, да кто угодно, двери были открыты, и велись диссидентские разговоры, споры, читалась добываемая разными путями там -и сам издатовская литература. Некоторые готовились к эмиграции, находились в подаче , и это тоже служило извечной темой обсуждений. В общем, мастерская выглядела рассадником вольнодумия.
Лео в общих чертах знал об особенности тогдашнего быта столичной интеллигенции, об этом было сказано в некоторых, пока еще доступных книгах, и недоумевал, с какой стати дед вспоминает все это.
Читать дальше


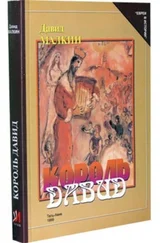

![Виталий Храмов - Катарсис. Наследие [litres]](/books/427900/vitalij-hramov-katarsis-nasledie-litres-thumb.webp)