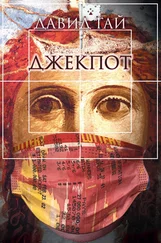– Я считаю себя настоящим патриотом, который со страной и в горести, и в радости. Но осведомителем быть не хочу. Мне это претит. И давайте на этом закончим нашу беседу.
– Вы понимаете, какая реакция может последовать ввиду вашего отказа? – визави не скрывал разочарования. Облом никак не входил в его планы. Большинство сотрудников, с кем вел задушевные разговоры, соглашались, а этот рыжий кочевряжится. Ладно, попробуем по-другому, прижмем, поймаем на чем-нибудь – тогда как миленький пойдет навстречу.
– Попугать хотите? Не получится. Уволите – найду другое место, программисты вроде меня сейчас нарасхват, – гнул свое Лёня.
– Ну зачем вы так… Пугать никто не собирается, – усы пошли на попятный. – Вас как специалиста очень ценят, нам это известно…
На том и расстались. Больше Лёню в отдел кадров не вызывали. Месяц-другой жил в напряжении, ожидая какой-нибудь подлянки, однако все обошлось. “Очевидно, решили отстать – и без меня, видать, хватает на фирме добровольцев, на практике изучивших новый закон физики: стук распространяется быстрее звука. И мстить не стали – на фига я им сдался…” Удивило лишь то, что пропустили для участия в эксперименте: хотя, с другой стороны, собрали там всякой твари по паре, вот и он, Лео, сгодился…
И все это стремное, нервное время не шел из головы дед.
Лео назвали в его честь. Дед появился на свет девятого мая сорок пятого в семье военного штабиста, полковника, и его детские воспоминания сопряжены были с неизменными в этот замечательный день застольями в родительской гостиной – одной из двух комнат коммунальной квартиры в центре столицы: тостами и пьяным весельем гостей, маршами и песнями на пластинках Апрелевского завода, звучавшими на трофейном же патефоне, громким звоном бокалов (хрусталь, два столовых сервиза из мейсенского фарфора, а также ковер во всю стену с изображением сцены охоты, радиоприемник, шерстяные отрезы, кожаные пальто и немало разной одежды были вывезены из поверженной Гансонии).
Что касается всего этого по тому времени богатства, у прадеда Лео была любимая байка про ординарца Ваню, деревенского парня, которого он однако никак не мог приучить ценить хрусталь и фарфор, экспроприируемый из занятых славишскими войсками гансонских усадеб. Едва Ваня видел аккуратную горку посуды во вражеском жилище, в нем вскипала ярость и он пускал по ней автоматную очередь. “Ваня, что ты делаешь? – взывал к нему командир. – Упакуй аккуратно рюмки и тарелки и отправь домой. Я тебе помогу…” – “Товарищ полковник, Генрих Владимирович, я привык пить водку из граненых стаканов” – и следовала новая автоматная очередь.
Девятого мая каждый год отмечали сразу два события. “Ты – дитя Победы!” – возглашал отец в полковничьем кителе с надетыми по торжественному случаю орденами и медалями и радостно подбрасывал малыша к потолку, у того дух захватывало от страха и восторга. От отца пахло одеколоном, табаком и еще чем-то горьким и невкусным, когда он целовал Лёню.
Повзрослев, Леонид Генрихович услышал немало рассказов о том, как отец воевал, как мама Поля, к тому времени сильно располневшая, следовала вместе с мужем фронтовыми дорогами, боясь – совершенно справедливо – оставить его наедине с соблазнами в виде молодых штабных и прочих походно-полевых дам. И много чего еще выдали по секрету родственнички-“доброхоты” после кончины отца, ушедшего от инфаркта в шестьдесят пять лет, но до конца дней не изменившего страсти ухаживать за женщинами и соблазнять по мере возможности. Например, о том, как отец весной 1944-го схватил триппер от штабной машинистки и Поля пала в ноги начальнику штаба армии с просьбой направить непутевого муженька в тыловой госпиталь, где подобный насморк лечили присланным бриттами пенициллином.
Лёня оказался единственным ребенком – так случилось. С детства обнаружились в нем способности к рисованию, и, несмотря на протесты отца, трудившегося на ответственном посту в одном из министерств (помог устроиться фронтовой друг – замминистра), поступил Лёня в художественное училище. По окончании правдами и неправдами выбил мастерскую на первом этаже многоквартирного дома (не без участия смирившегося с выбором сына папаши) и начал жизнь вольного живописца, когда в кармане то густо, то пусто. В комбинате декоративно-прикладного искусства получал заказы на портреты тогдашних вождей, рисовал (сам он говорил иначе – малевал ) полотна для городских и сельских клубов и домов культуры, в общем, зарабатывал на пропитание поденщиной, которую ненавидел и с которой смирился. Для себя же рисовал пейзажи, делал портреты, в том числе на заказ, пробовал искать свой жанр, свое направление, призвал на подмогу Пикассо, Миро, Магритта и мало преуспел в этом. Картины его неплохо продавались в Славишии, вывоз же работ за границу был крайне ограничен – дед, по натуре весьма осторожный, никому не доверял, в скандальных бульдозерных выставках не участвовал, эмигрировать не собирался, поэтому за кордоном его не знали и живопись его не котировалась.
Читать дальше


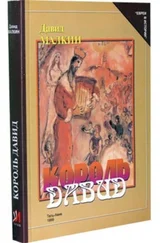

![Виталий Храмов - Катарсис. Наследие [litres]](/books/427900/vitalij-hramov-katarsis-nasledie-litres-thumb.webp)