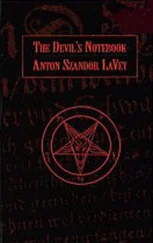232
Я писал Жуковскому: чувство, которое имели к Карамзину живому, остается теперь без употребления. Не к кому из земных приложить его. Любим, уважаем иных, но все же нет той полноты чувства. Он был каким-то животворным, лучезарным средоточием круга нашего, всего отечества. Смерть Наполеона в современной истории, смерть Байрона в мире поэзии, смерть Карамзина в русском быту — оставили по себе бездну пустоты, которую нам завалить уже не придется. Странное сличение, но для меня истинное и не изысканное! При каждой из трех смертей у меня как будто что-то отпало от нравственного бытия моего и как-то пустее стало в жизни. Разумеется, говорю здесь как человек — часть общего семейства человеческого, не применяя к последней потере частных чувств своих. Смерть друга, каков был Карамзин, каждому из нас есть уже само по себе бедствие, которое отзовется на всю жизнь; но в его смерти, как смерти человека, гражданина, писателя, русского, есть несметное число кругов все более и более расширяющихся, поглотивших столько прекрасных ожиданий, столько светлых мыслей.
233*
Если Державин русский Гораций, как его часто называют, то князь И.М. Долгоруков, в таком же значении, не есть ли русский Державин? В Державине есть местами что-то горацианское; в Долгорукове есть что-то державинское. Все это — следуя по нисходящей линии. Державин кое-где и кое-как обрусил Горация. Долгорукову удалось еще обрусить или перерусить русского Державина, опопуляризировать его. Державин не везде и не всегда каждому русскому впору. Долгорукова каждый поймет. Не знаю в точности почему, а может быть, просто и ошибаюсь, но, читая Долгорукова, я невольно припоминал Державина: разумеется, не того, который парит, а того, который легко и счастливо скользит по земле и метко дотрагивается до всего житейского. Впрочем, не думаю, чтобы Долгоруков именно и умышленно подражал Державину. Он не искал его; а просто сходился с ним на некоторых проселках. По большим дорогам поэзии он не пускался. В том и другом много житейской философии: в Долгорукове более потому, что он не увлекался в сторону и на высоты. В том и в другом есть поэзия личная, так сказать автобиографическая; но в Долгорукове даже ее более, нежели у Державина; она может быть даже живее и разнообразнее. Он более держится около себя, менее обращая внимание на события, а более на впечатления и ощущения свои. Как ни своенравен певец Фелицы, как ни далек он от так называемой классической поэзии, но все же подмечаются в нем некоторые классические приемы. Видно, что и ему хочется быть академиком и показать, что он чему-нибудь учился. В другом никак не отыщешь этих изволений, этих притязаний. Читая его, нельзя не убедиться, что в поэтах он более охотник, чем присяжный и ответственный поэт. Он писал стихами потому, что так пришлось, потому, что рифмы довольно легко и послушно ложились под перо его. Еще — и здесь отделяется он от Державина — бывал он поэтом, когда бывал влюблен, а влюблен бывал он очень часто. Это раскрывает он нам в первом выпуске стихов своих: Бытие сердца моего. Это бытие разделяется на многие, маленькие отделения. Мог бы он назвать книгу свою. Летописью о сердечных мятежах. Но междуцарствия в сердце его не бывало; только часто сменялись пари, то есть царицы. Кто же из влюбленных не бывал в свой час поэтом? Не у каждого выливались стихи на бумагу, но поэтическая нота, хотя и глухо, а звучала в груди каждого. И каждый мог сказать:
Auch ich bin in Ancadien geboren .
[ И я родился в Аркадии . — Стих Шиллера .]
А Долгоруков не только родился в этой Аркадии, но исходил ее из края в край, вдоль и поперек и постучался у каждого женского сердца. Он влюбчивый поэт. Он поэт-сердечкин, но не вроде князя Шаликова. В нем была искренность, была нередко глубина чувства. Вот начало одной песни его:
Без тебя , моя Глафира ,
Без тебя , как без души ,
Никакие царства мира
Для меня не хороши .
Разумеется, это не из лучших стихов его. Здесь ничего нет особенного: ничего нет художественного ни в выражении, ни в отделке, ни в фактуре стиха; но есть замечательное движение в приступе. Это невольное сердечное восклицание. Так и слышится, что оно вырвалось из груди и высказано прежде, чем было оно написано. Опять, может быть, ошибаюсь и обманывают меня первоначальные впечатления мои; но эти четыре стиха как-то особенно приятно и нежно звучат в памяти моей.
Читать дальше