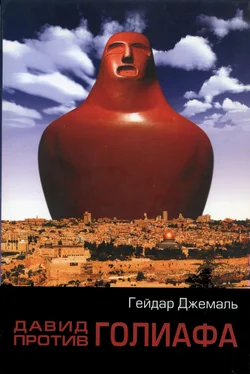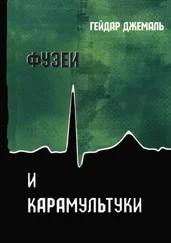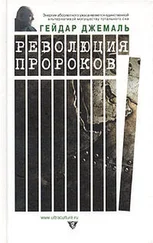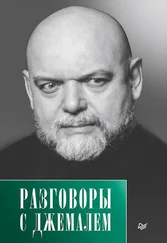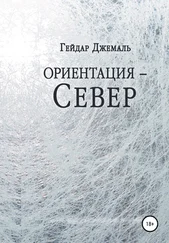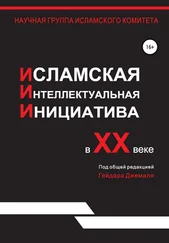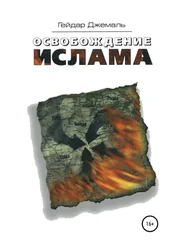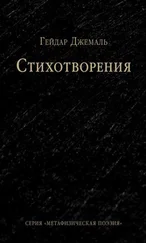Размытым и вездесущим, при этом сопровождающимся большим количеством юридического и медийного словоблудия, оно становится лишь с выходом на авансцену истории новой группы влияния, к которой, собственно, и относится представление об «избранности». Таким образом, «элита» как новая социополитическая реальность и современное насилие теснейшим образом связаны между собой.
«Элита» есть не что иное, как политически оформленный Либеральный клуб, взятый в самом широком аспекте. Во Франции XVIII века этот клуб начинается с декадентских аристократических салонов, куда проникают Руссо, Вольтеры и иная околомасонская публика разночинного происхождения. Дальнейшее развитие этот клуб получает в революцию 1789 года: адвокаты, торговцы и деклассированные дворяне, рубящие головы представителям традиционного истеблишмента, – это его радикально левое крыло (в те времена), Директория – правое.
В Америке Либеральный клуб уже в XIX веке фактически стал ведущей политической силой, взявшей под свой контроль государство после гражданской войны 1861–65 гг. Именно в Штатах складывается корпус либеральной элиты в ее нынешнем понимании: адвокаты, крупные частнопрактикующие врачи, удачливые мошенники, верхушка интеллектуальной и художественной богемы (в частности, Ральф Эмерсон и другие представители раннего американского романтизма) и прочая подобная публика. Они – а вовсе не представители англо-саксонского протестантского капитала – оформляют мировоззрение американского экспансионизма, замешанного на смеси прагматизма, билля о правах и геополитического мессианства.
В Европе Либеральный клуб полномасштабно прорывается к управлению после Второй Мировой войны. За этим следует фундаментальное перерождение классических европейских «демократий». Если в прошлом политические партии, участвовавшие в парламентской борьбе, были авангардами реальных сословий и отражали в своих дискурсах их интересы, то в новых условиях эти партии становятся просто подразделениями Либерального клуба, которые только имитируют соответствующие дискурсы, формируют бренды, условно связываемые с теми или иными потребностями социальных групп. Парламентское представительство становится виртуальным, публичная политика превращается в театр.
Предвосхищая эту эпоху (а точнее, уже с конца XIX века), насилие и все, что с ним связано, становится излюбленной темой Либерального клуба. Оно разрабатывается в антропологическом и клиническом аспектах (психиатрия в лице таких «новаторов» как Ломброзо и Фрейд с их последователями до сего дня); оно изображается в искусстве (кино и театр); наконец, оно оказывается рычагом в продавливании судебных реформ, изменении законодательной базы и т. п.
Важно подчеркнуть, что Либеральный клуб, стремясь монополизировать насилие через освоение дискурса новой нерелигиозной легитимности, создает для этого светскую квазирелиозную подкладку: общечеловеческие ценности, правозащитная тема, гуманизм, в конечном счете, философия ненасилия. В ход идет все: Толстой, буддизм, модифицированное секулярное «христианство» – все присваивается Либеральным клубом, для того чтобы идентифицировать себя со всем «гражданским обществом» и получить полномочия на одностороннее насилие в интересах упрочения своего политического будущего. Естественным «штабом» мирового либерализма становится США. Таким образом, любые аналоги и филиалы этого клуба повсюду в мире превращаются в центры, лоббирующие американские геополитические интересы.
Разумеется, Либеральный клуб в своем удачном прорыве на мировой политический олимп не отменил, а только потеснил двух других капитальных игроков, участников исторического мэйнстрима. Таковыми являются Традиционный клуб, который, несмотря на тяжелейшие испытания, потрясшие его до основания (две мировые войны и Октябрьская революция), тем не менее, остался на плаву, и сообщество радикалов.
Генезис политического радикализма в современном (т. е. не религиозно-сектантском) значении слова восходит к якобинским народным комитетам… Впоследствии радикализм был оформлен если не как доктрина, то как модель жизни и политической воли Огюстом Бланки… В эту славную плеяду входят частично декабристы и карбонарии, народовольцы и эсеры, а также ненавидимые славянофилами националисты «русской» Польши и Австро-Венгрии.
Либералы всегда вели активную политико-стратегическую игру с радикалами, с одной стороны, пытаясь запугать, а то и обвалить с их помощью традиционный истеблишмент, расчищая место для себя, с другой – представить свой клуб тем же «традиционалистам» и «молчаливому большинству» в качестве единственной альтернативы ужасам террора и революции. Отсюда противоречивость либеральной политики в отношении политического радикализма.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу