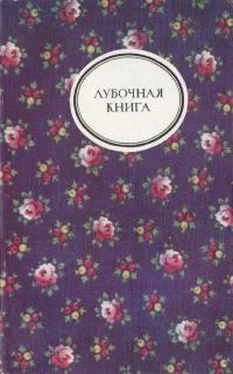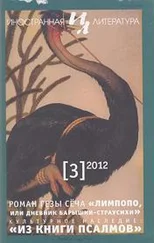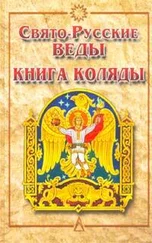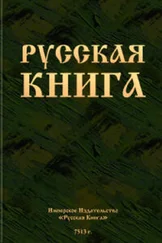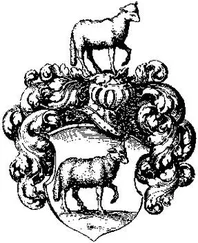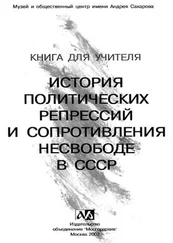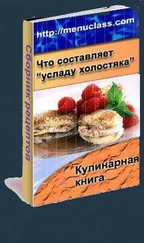Лубочной литературой принято называть издательскую продукцию, обращенную к читателям из социальных низов, или, используя широко употреблявшийся в то время и весьма аморфный по содержанию термин, из «народа». От литературы «образованных» читателей ее отличали не столько тематика и поэтика, сколько характер издания и распространения, а также некоторые связанные с этим внешние характеристики книги (оформление, форма заглавия и т. д.). Еще в середине XIX века известный фольклорист и этнограф И. П. Сахаров отмечал, что «лубочные издания книг, книжек, листов и листочков есть на Руси издания народные. Серая бумага, блестящая раскраска картин, дурные оттиски, неправильный рисунок — составляют главные отличия лубочных изданий» [3] Сахаров И. П. Русские народные сказки. — СПб., 1841. — С. LXXI.
.
Они издавна выходили на Руси. Уже в конце XVII — начале XVIII века получила широкое распространение так называемая лубочная картинка (гравюра на дереве, а позднее на меди), которая наряду с изображением обязательно включала словесный текст, являясь не просто картинкой, а сложным синтетическим образованием. Здесь находили свое отражение самые разные сюжеты: религиозные, фольклорные (образцы народно-смеховой культуры, былины, сказки), заимствованные из рукописной литературы (западноевропейский рыцарский роман, демократическая сатира XVII в.) и даже экзотические сообщения из газет. Расходившиеся большими тиражами лубочные картинки просуществовали до Октябрьской революции, после которой выпуск их был запрещен.
Параллельно с лубочными картинками, предназначенными для развешивания на стенах, существовал и так называемый лицевой лубок, напоминающий современные книжки для малышей, где на каждой странице изображение сопровождалось подписью. В подобного вида изданиях обычно выходили популярные сказки.
В последней четверти XVIII века получает распространение и низовое книгоиздание, рассчитанное на более искушенного читателя, нежели потребитель лубочной картинки, хотя и не столь высокообразованного (и, добавим, малочисленного), как адресат книг Г. Державина и Н. Карамзина.
Правда, термин «лубочный» самим народом к этим картинкам и книгам не применялся. Он возник в среде образованных слоев населения, причем происхождение его не совсем ясно. Лубом называется липовая кора, и, по версии И. М. Снегирева, определение «лубочный» связано с липовыми досками (называемыми в просторечье «лубом»), на которых вначале гравировались первые народные гравюры. Однако Н. А. Трахимовский считал, что слово это происходит от лубяных коробов, в которых разносили свой товар бродячие торговцы — офени, а И. Е. Забелин — от тех же коробов, с раскраски которых заимствовалась картинка, используемая в народной гравюре. Так или иначе, к середине XIX века этот термин стали применять для обозначения всего, сделанного наскоро и некачественно. Поэтому и народную литературу, расцениваемую по критериям «высокой», стали пренебрежительно называть лубочной. Обычно на обложках подобных изданий была картинка, близкая по характеру изображения и раскраски к народной гравюре, что сближало их с лубочной картинкой, не говоря уже о частичной преемственности в сюжетах и жанрах.
С конца XVIII века лубочная словесность выделилась в автономную, весьма процветающую сферу книжного дела. Издатели «народных» книг были выходцами из крестьянской, мещанской или купеческой среды (Е. А. Губанов, Ф. М. Исаев, И. А. Морозов, А. А. Холмушин и др.) и сумели, как отмечал академик А. Н. Пыпин, «известным образом удовлетворить книжные потребности народа, дать ему целую энциклопедию полезных и увеселительных книг, по его умственным и по его материальным средствам. Народный и средний (мещанский и купеческий) читатель отчасти и не мог купить серьезной книги, а отчасти не мог ее понять <...> он не мог читать настоящего Пушкина или Жуковского (не говорим о немногих исключениях в роде сказок), потому что ему недоступен был весь этот уровень литературного развития, и читал Бову Королевича, песенники и подобную беллетристику» [4] Пыпин А. Народная грамотность. // Вестник Европы. — 1891. — № 1. — С. 274.
.
В наибольшей степени приближала лубочную книгу к крестьянину уникальная форма ее распространения. Если другие сферы книжной торговли исходили из того, что покупатель приходит за нужным изданием, то здесь книга «приходила» к покупателю. Удачная обложка и выразительное заглавие гарантировали успешный сбыт, так как малограмотный крестьянский читатель плохо ориентировался в лубочной литературе и не мог за короткий срок просмотреть книгу. Поэтому заглавие и обложка должны были «завлечь» читателя, акцептируя наиболее выигрышные моменты сюжета, иногда они вообще были слабо связаны с содержанием. Основную часть лубочных книг распространяли офени, регулярно обходившие большие регионы Европейской части России. Они в коробе приносили брошюры в один-два печатных листа в деревню, где за три — пять копеек сбывали (нередко «променивая» на продукты) желающим.
Читать дальше