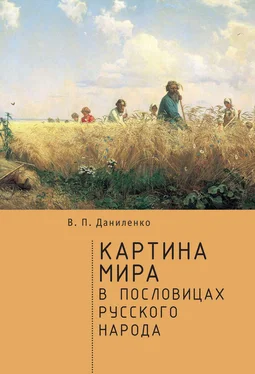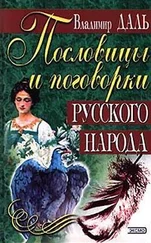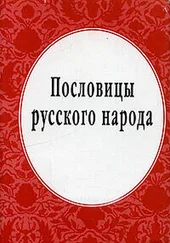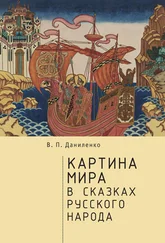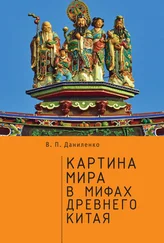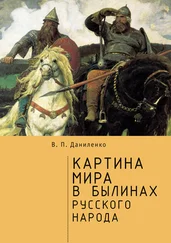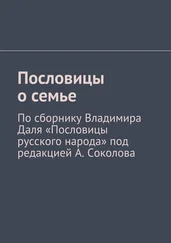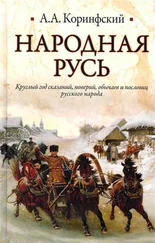Беспечальным сон сладок.
Не твоя печаль чужих детей качать – не твоя забота; печаль от глагола пекусь .
Бодливой корове бог рог не даёт – пословица латинская.
Бог даст день, бог даст и пищи . Этой пословицей бедняк утешал однажды голодную жену. “Да, – отвечала она, – пищи, пищи, да с голоду и умри”.
Нужда научит калачи есть , т. е. нужда – мать изобретения и роскоши.
Кто в деле (в должности), тот и в ответе (в посольстве)» ( Пушкин А. С. Собр. Соч. в десяти томах. Т. VI. М., 1981. С. 329–330).
Отбор пословиц, произведённый А. С. Пушкиным, не тенденциозен. В их анализе нет даже и намёка на критическое отношение к анализируемым пословицам. Вопрос о таком отношении к ним даже и не появлялся в сознании А. С. Пушкина. Он видел в русских пословицах квинтэссенцию остроумия и нравственного здоровья нашего народа. Он видел в них одно из свидетельств его культурной эволюции.
В. А. Пьецух увидел в русских пословицах по преимуществу инволюцию. Для своих «Сравнительных комментариев к пословицам русского народа» («Октябрь» 2002, № 8) он отобрал главным образом такие пословицы, которые высвечивают в русском народе не самые лучшие его черты.
Вот какие, в частности, пословицы В. А. Пьецух выбрал:
Утром выпил – весь день свободен; Бодливой корове бог рог не даёт; Бедность не порок; Гусь свинье не товарищ; Грех воровать, да нельзя миновать; С волками жить – по-волчьи выть; Закон, что дышло, куда повернёшь, туда и вышло; Свято место пусто не бывает; Что русскому здорово, то немцу смерть; Какие сани, такие и сами; Всякая сосна своему бору шумит и т. п.
Отбор пословиц у В. А. Пьцуха явно тенденциозен. Но дело даже не столько в этом отборе, сколько в комментариях к ним. Эти комментарии сплошь и рядом не вдохновляют. Вот, например, какой комментарий, он даёт к пословице «Кто в море не бывал, тот богу не маливался» : «Наши – один из самых сумрачных, невесёлых, сосредоточенных, словом, слишком поживших, что ли, народов в мире, потому, что мы горемычные и нам по воле Провидения досталось как никому».
Как приговор русскому народу в его «Комментариях…» звучат такие слова: «В другой раз подумаешь: а что смерть? Наживёшься до изнеможения среди этих остолопов, нахлебаешься горя на ровном месте и придёшь к заключению: да это освобождение, а не смерть».
А вот сам русский народ был о себе иного мнения. Вот что он говорил о себе в своих пословицах:
Русский человек – добрый человек; Русский человек добро помнит; Русский догадлив, что увидит, то и сделает; Русская душа – нараспашку; Сердце русского неустрашимо; Русское сердце твёрже брони; Знает свет: твёрже русских нет; Русский ни с мечом, ни с калачом не шутит; Как русский за штык берётся, так враг трясётся; Мы, русские, шутить не любим: кого не штыком, так кулаком; Русский повалится – и то на врага упадёт; Русский до конца стоек; Русский воин-исполин трижды брал Берлин; Русский в словах горд, в делах твёрд.
Чтобы быть самокритичным, русский человек сказал о себе и такое:
Русский человек задним умом крепок; Русак умён, да задним умом; Русский ум – хитроум; Русский глазам не верит, а пощупает; Русский с горя пьёт и с радости; Русский терпелив до зачина; Русский час – всё сейчас; Русский человек любит авось, небось да как-нибудь; Я русский, на манер французский, только немного погишпанистее; Русские медленно запрягают, но потом быстро скачут.
Противоречие между А. С. Пушкиным и В. А. Пьецухом неслучайно. Оно проистекает из самой русской пословичной картины мира. Она содержит пословицы, которые часто противоречат друг другу. Чуть ли не по любому поводу мы можем найти в ней тезис (например, Без труда не вынешь рыбку из пруда ) и его антитезис ( Работа – не волк, в лес не убежит ). Но всё дело в том, что в конечном счёте в русских пословицах над антитезисом явно господствует тезис.
Иначе говоря, противоречие между тезисом и антитезисом в русских пословицах диалектически разрешается в пользу тезиса. Вот почему здоровое, созидательное, эволюционное начало в них явно преобладает над больным, разрушительным, инволюционным.
Преобладание эволюционного начала над инволюционным в русской пословичной картине мира заявляет о себе на отношении её творцов ко всем этажам мироздания – к физической природе, живой природе, психике и культуре.
В качестве основных стихий наши пословицы признают в ней землю, воду, огонь и воздух. В каждой из них русские люди видели необходимое условие для жизни. Но каждая из них, вместе с тем, могла быть не только необходимой для них, но и опасной. Очевидно, из отношения к физической природе проистекает такая черта русского характера, как осторожность . Эта черта идёт от отношения к физической природе, но она, вместе с тем, охватила в конечном счёте отношение русских ко всему миру. Об этом свидетельствуют многочисленные русские пословицы об осторожности. Вот некоторые из них:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу