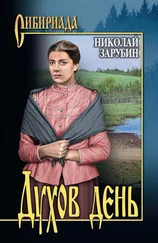- Нечему меня учить, смерд!
- Всё так, - Царствие Небесное стал загибать пальцы - Сам посуди: Верхом ты ездишь скверно. Для охоты да карусели, чтобы перед мамзелями погарцевать еще так-сяк, а на деле - не взыщи. Стреляешь того хуже, как баба стоя ссыт. - по спелому животу под поясом хлопнул Кавалера - тот и охнуть не успел, - Распустился. На что ты сейчас годен? Девок на Пресне очами стращать? У мамкиной руки голубенком прикидываться? Спящих мужиков на Пресне жечь?
- Что же мне делать?
- Поутру скажи, чтобы коня седлали не простого - андалузийского, долгогривенького, того, что справа от дверей в деннике стоит. Он хоть и строптив, а учён, для нашего дела сгодится. Возьми его и скачи в Царицино село. За кирпичный мост на первую лужайку над ярами. Там и свидимся. А до той поры я с тобой разговаривать не стану.
Как болвашка, кувырнулся назад через голову Царствие Небесное - упал в траву высокую и потерялся. А с ним исчезли Навьи люди. Погост опустел.
Кавалер бросился было искать - тихо. Чисто. Мертвые спят. Ворота храма заперли на три оборота ключа. Гроб плывет, мертвец ревет, ладан дышит, свечки горят.
На умытом небе над Москвой, из розовой полосы на западе - встали три сестры - звезды.
В эту ночь все собаки на Москве молчали. Положили головы на лапы. Мерещились в собачьих зрачках восточные граничные огни.
Сполохами посетила небеса сухая гроза.
Смилостивилась, не разразилась.
Сон-трава на погостах и обочинах поднялась в рост.
Белые кони окунали гривы в незацветший юношеский кипрей
Все окна Москвы были распахнуты.
Спали на сквозняке слободские и посадские люди. Разметались барские простыни. Отвернулся к стене голый любовник. Женщина во сне забормотала, прихватила пальцами сосок и затихла.
В Филях таборные народы жгли костры. Босые цыганки мыли ковры на отмелях Москвы-реки, соленый песок оседал на запястьях и щиколотках. Говорили весну серебряные цыганские погремцы.
Плыли ковры по течению, обновлялись, как образа, узоры.
Цыганки бежали следом, ловили ковры ясеневыми тростями, смеялись, плескали друг другу в лицо чистую ночную воду.
Их окна в окно, от двери к двери крались на цыпочках карлики, навьи люди.
Остывали в палисадах детские следы.
Карлик юркал в подпол. Карлица сигала через низкий подоконник, задрав подолы до исподнего. Задела о гвоздок бисерной браслеткой, разорвала - с растерянным стуком посыпался по половицам красный бисер.
Красными сполохами на истинном востоке настигал Москву дробный сильный рассвет.
Навьи люди сраму не имут. И другим не дают.
Кавалер спокойно спал остаток ночи. Московские пасынки - псы стерегли изголовье.
Грыз в щепу край кормушки долгогривый андалузский жеребец.
Острым копытом ударил в пол.
Ночь ничья.
Глава 15
Любовь
С черным зеркалом в руке коротала день старуха Любовь Андреевна.
При полуденном свете горела на столе свеча в желтой плошке цареградской поливы - пламя незримо, только вокруг фитиля синева и дрожание воздуха.
В чистый воск свечи подмешаны были индийские травки, любовные порошки и зерна, густые запахи женских ложесн, секрет виверры, смолы из саркофагов Карфагена.
Больше всех благовоний Любовь Андреевна ценила тяжелое сандаловое масло. Лет двадцать тому назад числилась в первых модницах, все столичные платья и шали, перчатки и платки пропитывала по швам тленным ароматом.
В те годы она выписала через голландскую компанию китайского раба.
Нарядила в синий шелк с драконами и зеркальными карпами и скуфейку с вышитым золотцем ирисами и фениксами.
Дала туфли без пяток, велела семенить. Косу залакировала сама, намертво. По Царскосельским тропинкам таскал китаеза за хозяйкой кувшин померанцевой воды, опахала и собачонок на подушках.
Любовь Андреевна и ее распудренные аманты над китаезой посмеивались, тормошили, как тряпочного, раб на все скалился и кланялся.
Говорили в свете, что китайский бесёнок по ночам впрыскивает Любови Андреевне сандаловое масло под кожу через просверленные ежиные иголки. Ради благоухания красавица будто бы и боль терпела и опухоли, но конечно же, все врали.
Круглое венерино зеркало на ручке - будто вырезанное и украденное лицо.
За распахнутыми наотмашь окнами испуганно и просторно расцветала Москва - золотой бухарский виноградник на восточном ветру.
Любовь Андреевна подносила к лицу зеркало - и стекло отзывалось яростной старостью.
Всматривалась, как хирург, узким стальным взглядом в неприкрашенное лицо, будто в обескровленную рану.
Читать дальше

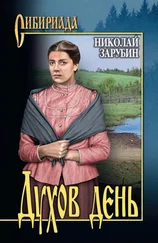

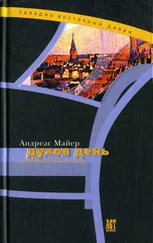
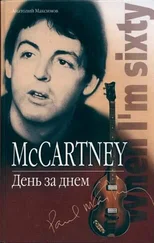

![chromewitch - Духов день [СИ]](/books/413247/chromewitch-duhov-den-si-thumb.webp)