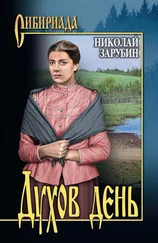- Розан белый, маков цвет, мамка сдохла али нет?.
Не плакал. Строго возражал пустосвяту, соболиные брови сдвигал:
- Моя мать никогда не умрет.
Тяжелы стали гуси-лебеди на подъем, спали по углам, как ручные, голову под крыло завернув. За дробным переплетом оконцев по старому обычаю слюдяных, сыпали тесные облака на Москву из просини пепельные оспенные перья.
На Вербное дали Кавалеру денежку, поставили в круглом покое с медным глобусом и книгами, привели девчонку из портомойни, одногодку. Сказали целовать ее в лицо с любовью и денежку взамен ей отдать. У одногодки и лица-то не было - струп на струпе, расчесалась докрасна. Куда целовал не помнил, шершавенько на губах, горячо, мокро. Потом больную умыли, давали в чашке мутные обмывки,"с лица воду пить". Купили Кавалеру оспицу за медные деньги. Скоро уложили в постель. Бабка детские запястья крепко накрест к постели привязала, чтоб лица не касался, обойдется отродье без Божьего жемчуга. Рвался из пут, потом устал. Когда мать, еще слабую, после болезни принес на руках к сыновнему ложу дюжий гайдук - обезображенная недугом Татьяна Васильевна только руками всплеснула. Чистый, как рождественский снежок, как белый хлебушек, ни вереда, ни выболинки на личике - так бы съела.
- Господь меня крепко поцеловал. И здесь. И тут. И вот тут - показывала матушка уродства свои, привлекала за плечи дитя печали, любовалась сама в себя, как в прямое круглое зеркало.
Пасхальной полночью открыл глаза Кавалер в пустынной спальне своей под привычное хлопанье крыльев под потолком, увидел в изголовье Желтый Глазок.
Лампадка погасла. Лаяли на Москве псы.
Желтый глазок, будто янтарь обточенный, недреманный с этого дня стерег горючие сны. Черное пятнышко-щелка поперек. Спросил Кавалер у гостя полнощного:"кто ты есть"? Хотел в ладошку поймать - прошил насквозь. Мигнул Желтый Глазок и ярче засветился, иголочкой в сердце вошел. Смолкли пархатые разверстые крылья, рухнули на сизые пойменные луга гуси-лебеди и один за другим с кликом издохли. Все хорошо устроено на земле. Они не достанут тебя. Спи. Не бойся. Я с тобой навсегда. Хозяйский глазок - смотрОк.
Никогда больше Кавалер не жаловался челяди на ночные томления и мечтания. Просыпался свежий и розовый - не сам по себе спал, а под присмотром.
Стали замечать домашние, что как лампадку не заправляй - к утру деревянное масло иссякало до донышка. Сначала грешили на то, что дитя балуется, выливает святое из стеклянницы. Потом старшая мамка догадалась, прикрепила к лампадной цепке паутинку - и не захочешь, порвешь, если стронешь. А наутро лампадка суха, чуть не вылизана, паутинка цела, а дитя играет на ковре резными сердоликами и гранатовыми яблоками, смеется над всеми в голос.
И раньше-то опасались, а теперь и вовсе затряслись, даже если переодевали или купали - после него руки мыли тайком и творили Иисусову молитву от асмодейской порчи. Наплели по кухням да по службам колдовских сплетен. Матери и бабке, без уговора, не доносили - нельзя крепостную тайну вслух.
Французов выписали, научили Кавалера грамоте, вежеству, реверансам, танцеванию и обхождению с дамским полом, как положено по сословию. Так вышколили - будто узорный ключик в спину вставили, всем на радость. Наставляли всегда руки держать чуть приподнятыми, чтобы кисти не порозовели и кровяные жилки не проступили, не дай Бог. До того нежен и деликатен вырос, что кушанья слишком холодного или горячего не принимал, только чуть теплое, как младенцу кашица. Слегка просквозит, поволнуется - и готово дело - ахнул и опрокинулся в расслабленный обморок на вощеные узорчатые паркеты. Сквозь густые ресницы подсматривал, как слуги суетятся. Всегда носили за ним в венецейском флаконе масло горького апельсина в смеси с гераневым два к одному - оживлять от помрачения. Ни в чем жизнь отказа не давала - так все думали - и зеркала на серебре льстивы, всякого сладостно приукрасят.
Отзывалась серебряная амальгама зеркал расщепленному звучанию клавикордов, без конца менялись царственные позы танцоров, в сусали, атласе и гарусе на паркетных наборных "елочках".
Водили Кавалера в большие дома, где на всех порядочных людях - хорошие кружева.
Угасали любезные беседы в салонах, если Кавалер соглашался петь. Словно цветные хрустали печально перекатывал в холодных ладонях. Не девушка, не юноша, а дитя мертвое стоит на пороге в ноябре и поет вслепую, свысока накликивает на нас высокие снега, бессолницу, непрощеное воскресение. Альтист с флейтистом холодели под ливреями, вторя лазоревому бесстрастному голосу.
Читать дальше

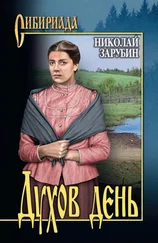

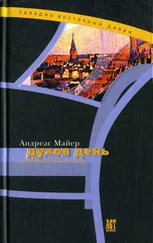
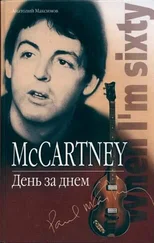

![chromewitch - Духов день [СИ]](/books/413247/chromewitch-duhov-den-si-thumb.webp)