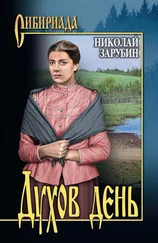- А ресницы то длинные... звенят...
- Не тронь, - отбил локтем ее руку в полете Кавалер.
- Не буду... Ты приходи. Я жду.
- Вот еще. - Кавалер перехватил поудобней ручку ведра, пошел вниз, как пьяный, с упрямством, распорол о сучок ветляной рубашку на плече и даже не заметил.
- Вернешься... Держи свой ум во аде и не отчаивайся. - уж и вовсе неслышно шепнула женщина и отступила в накопившуюся к вечеру по садовым низам сутемь.
Скрипнули петли и наглухо захлопнулись ворота пасеки.
Голубой вечер стал. Замлела на востоке пустая звезда. Далеко внизу, в овраге гулко брехала и грызлась собачья свадьба.
Все успел Кавалер, и воды набрал в источнике и придумал, что соврать, да не пригодилось.
Ксения Петрова мельком посмотрела на него, растрепанного, одичавшего за долгий летний день, с полными ведрами мятной звездной воды.
Кивнула в сенях, куда поставить, только одно сказала, кивнув на накрытый во дворе стол под открытым небом Подмосковья:
- Тебя за смертью посылать. Садись. Я ужин собрала.
- Не надо... не могу есть.
- Ясно. - Ксения ушла в дом, и уже из за двери мстительно обещала - Вернется отец - все скажу.
Кавалер сел на последнюю ступеньку домика карлицы, впился пальцами в кудри и готов был провалиться сквозь эту холодную козью крыжовенную землю, в лопухи, во мхи, в щелочки поленицы у венца пятистенки.
- Ты где был? - спросила Рузя. Как всегда из ничего соткалась.
Маленькая... Глоточек лунный, молочный. Девочка. Присела на корточки, пыталась в лицо заглянуть. Отворачивался.
- Не хочешь - не рассказывай. Смотри, что я сделала. Это твой журавлиный подарок. Приворот.
Подняла девочка тонкую руку и увидел Кавалер на запястье ее - черный с белым браслет, сплетенный из прядей волос - ее и его.
Так больно и крепко переплелись волосы, что и огнем и железом не разнимешь, даже если захочешь.
Кавалер кашлянул , притянул девочку к себе за подол, толкнулся лбом невесть куда, в нее, в малую, в белую... В трепет, в лепет, в сквозную свирельную кость...
Только и сказал ей:
- Рузенька...
А больше ничего.
Глава 25 Буй-волк
На заре пришел Марко Здухач в горницу рыжей скопческой Богородички.
Толкнул дверь, запертую изнутри на засов, подалась дверь бесшумно и легко отворилась, да не на себя, как всегда, а от себя.
Господи!
Девка рано не спала, жгла сальный огарок на подоконнике, от нечего делать плела кружево, увидела гостя, смешала от испуга коклюшки и нити, испортила узор.
Озлилась:
- Напугал, черт страшный! Чего тебе еще?
Здухач молча поставил перед ней кувшин, обмотанный по горлу промасленным холстом.
- Готово. Спрячь в погреб, зелье холод любит.
Медовый дух по горнице пошел, хорошо так.
Богородичка было потянула холст, понюхать ближе, но Здухач прикрикнул:
- Не смей. Не для тебя сварено.
- Так уж и не смей. А если он меня первую отпить попросит?
- И отпей. Чай не отрава. Да только языком лизни чуток и заешь хлебом - только щеки загорятся, и мокро станет в щели, язык развяжется, а больше никакого урона. Ну, потом водой с серебра умоешься, отопьешься, пару дней попостишься и айда гулять, отмучилась.
- Как? - Богородичка под покровцем на лице вздохнула от испуга и любопытства по-кобыльи, поджала ножки на скамейке.
-Да я не про могилу, глупая ты девка - вдруг опечалился Марко Здухач, косу свою черную, кровяную, пожевал и присел на подоконник, нахохлился, как ворон на дорожном кресте - Ты жить будешь долго. Вижу. В глаза мне плюнь, если лгу. Дело нехитрое, видеть такое. Ты руку запястьем к себе поверни и сама глянь. - Богородичка подчинилась, посмотрела на запястье полное и белое, - Ну, что видишь?
- Ничего.
- То-то. Если жилы близко прилегают и не видно, как живчиком кровь под кожей колотится, значит помрешь в глубокой старости с миром.
Удивлялась девка - не поймешь, молод или стар, ишь, рожа чуднАя, чернявая, нос перебит в давней драке. Выговаривает не по нашему, вроде чисто, но певуче и с четким чарованием, будто не по русски, а во сне.
Поган, да не цыган.
Душно в горнице, а он в овчину закутан, препоясан красным кушаком с бляшками.
И не сапоги, не лапти на нем - кожаные отопки-постолы, высоко обмотанные шнуром по ноге. Пасечники и девушки - пегие кукушечки побаивались Марко, обходили десятым кругом его покосившуюся избенку-конуру с одним треснувшим окошком, но уважали очень.
Зато кони и змеи любили его.
Для змей по летней поре он оставлял на пороге избенки деревянную миску с молоком. А для коней носил в поясной сумке корки да морковки, и какого коня оделит, станет тот конь сиять, будто вылоснили его шелком.
Читать дальше

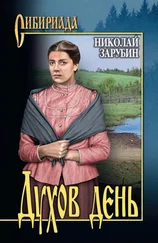

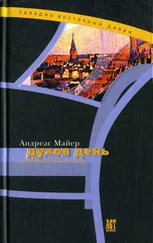
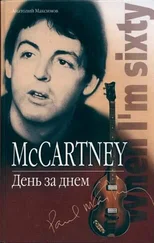

![chromewitch - Духов день [СИ]](/books/413247/chromewitch-duhov-den-si-thumb.webp)