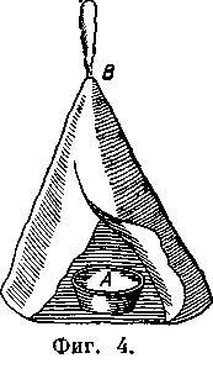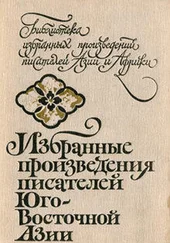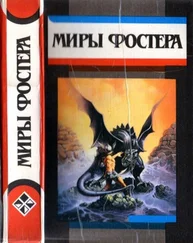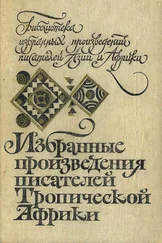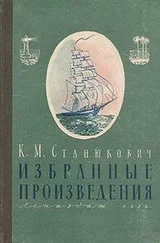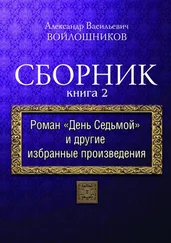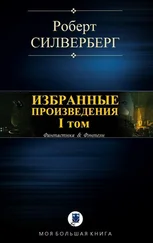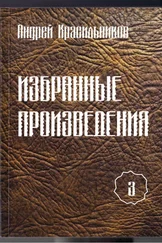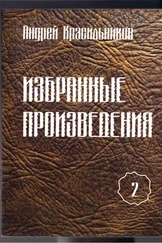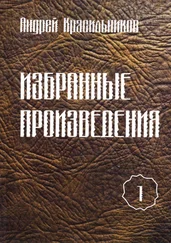Михей свидетельствует Ахаву о пророках (см. кн. I Цар., гл. 22, ст. 21).
Х
отя это, по-видимому, и показывает, что пророчество и откровение —
дело весьма сомнительное, однако оно, как мы сказали, считалось
весьма достоверным. Ибо бог никогда не обманывает благочестивых и
избранных, но, согласно известной древней поговорке (см. кн. I Сам., гл. 24, ст. 14) и как видно из истории Авигеи и ее речи 14, бог
пользуется благочестивыми как бы орудиями своей благости, а
нечестивыми — как бы исполнителями и средством своего гнева. Это
весьма ясно также видно из того случая с Михеем, который мы только
что цитировали. В самом деле, хотя бог решил обмануть Ахава через
пророков, однако воспользовался только ложными пророками, благочестивому же открыл дело так, как оно было, и не препятствовал
ему предсказывать истину. Однако, как я сказал, достоверность у
пророка была только моральная, ибо никто не может считать себя
праведным перед богом и хвалиться, что служит орудием благости
бога, как учит и на самом деле показывает само Писание, ибо гнев
божий соблазнил на народную перепись Давида 15, благочестие
которого, однако, Писание достаточно подтверждает. Итак, вся
пророческая достоверность основывалась на следующих трех вещах: 1) на том, что пророки воображали предметы откровения в высшей
степени живо — так же, как мы обыкновенно наяву воспринимаем
впечатление от предметов; 2) на знамении; 3) наконец и главным
образом на том, что они обладали духом, склонным только к
справедливому и благому. И хотя Писание не всегда упоминает о
знамениях, однако следует думать, что пророки всегда имели
знамение; ибо Писание не всегда имеет обыкновение рассказывать о
всех условиях и обстоятельствах (как уже многие отметили), но
скорее предполагает их известными. Сверх
34
34
того, мы можем допустить, что пророки, которые, кроме того, что
содержится в законе Моисея, ни о чем новом не пророчествовали, не
нуждались в знамении, потому что их [пророчества] подтверждал
закон. Например, пророчество Иеремии о разорении Иерусалима
подтверждалось пророчествами других пророков и угрозами закона, а
потому и не нуждалось в знамении; но Анания, пророчествовавший
вопреки всем пророкам о скором восстановлении государства, необходимо нуждался в знамении; иначе он должен был бы
сомневаться в своем пророчестве до тех пор, пока наступление
события, предсказанного им, не подтвердило бы пророчества (см.
Иерем., гл. 28, ст. 9).
С
тало быть, коль скоро уверенность, возникавшая в пророках
вследствие знамения, была не математическая, т.е. вытекающая из
необходимости понятия воспринятой или виденной вещи, но только
моральная, и знамения давались только с целью убедить пророка, то
отсюда следует, что знамения давались сообразно мнениям и
пониманию пророка; так что знамение, делавшее одного пророка
уверенным в его пророчестве, другого, пропитанного иными
мнениями, не могло убедить, и потому знамения каждого пророка
были различны. Точно так же и самое откровение различалось, как мы
уже говорили, у каждого пророка смотря по свойству физического
темперамента, воображения, а также и в зависимости от мнений, усвоенных прежде. В зависимости от темперамента пророчество
различалось следующим образом: если пророк был человек веселый, то ему были открываемы победы, мир и все, что побуждает людей к
радости; такие люди ведь обыкновенно очень часто воображают
подобные вещи; наоборот, если пророк был меланхолик, то ему были
открываемы войны, наказания и всякие беды; таким образом, поскольку пророк был сострадателен, ласков, гневен, суров и пр., постольку он был более склонен к тем или иным откровениям. По
свойству же воображения пророчество различалось таким образом: если пророк был человек со вкусом, то и душу бога он воспринимал в
изящном стиле; если же грубоватый — грубо. Так потом было и в
отношении откровений, которые представлялись в образах, именно: если пророк был селянином, то ему представлялись быки и коровы и
пр.; если же воином, — полководцы, войска; если, наконец, он был
царедвор-
35
35
цем, — царский трон. Наконец, пророчество различалось и по
несходству мнений пророков, именно: волхвам (см. Матф., гл. 2), верившим в астрологические бредни, рождение Христа было открыто
тем, что они вообразили звезду, взошедшую на востоке; жрецам
Читать дальше