Чарльз Додд - Основатель христианства
Здесь есть возможность читать онлайн «Чарльз Додд - Основатель христианства» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Старинная литература, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Основатель христианства
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4.5 / 5. Голосов: 2
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Основатель христианства: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Основатель христианства»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Основатель христианства — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Основатель христианства», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Наконец, в рассказах о Галилее много споров. В то время Иисус еще не стремился к ним сам, Ему их навязывали. Выполняя свое предназначение, Он встал перед необходимостью не только нарушать мелкие предписания современной Ему религиозной жизни (например, пост в определенные дни), но и ломать некоторые из установлений, почитаемые священными и необходимыми для сохранения Закона (например, соблюдение субботы). Не исключены были споры о том, нарушал ли Он своими действиями предписания Закона. Сам Он отрицает это. Однако на религиозного учителя такие действия все же бросали тень. Еще большее непонимание вызывало то, что Он открыто знался с людьми, близость к которым считалась зазорной. Его могли обвинять в пособничестве. Более того, иногда Он говорил этим людям, что их грехи прощены, что выглядело как непростительная самонадеянность, если не хуже. За все это Его бранили, и Ему приходилось защищаться.
Весьма подозрительным, в довершение, казался Его дар целителя. Конечно, такие подозрения нельзя было просто отбросить. Если здесь не "рука Бога", говорили несогласные, то, значит, колдовство. Они требовали от Него знака с небес, который удостоверил бы, что Его сила от Бога, подразумевая, что, если знака не будет, они не преминут сделать свои выводы. Иисус наотрез отказался, и тогда было объявлено: "Он изгоняет бесов Вельзевулом, князем бесовским"; другими словами — Он колдун. Религия евреев сурово осуждала колдовство, и (как мы уже видели) оно стало одним из обвинений, из- за которых Его приговорили к смерти. Евангелия подают это скорее как "наговор", чем официальное обвинение, но все равно опасный.
Видимо, более мягкую форму "наговора" представляли толки о том, что Он сошел с ума; и даже родственники Иисуса либо сами в это верили, либо по меньшей мере были склонны попридержать Его, пока молва не рассеется. Для того мать и братья и пытались пройти к Нему. Но теперь Он не мог подчиниться семье, хотя по нормам еврейского общества это было обязательным. Когда позже Он объявил, что каждый Его последователь должен "возненавидеть" мать и отца, Он знал, о чем говорит. Новая община, складывавшаяся вокруг Него, стала Ему семьей. "Вот матерь Моя и братья Мои; ибо кто исполнит волю Божию, тот брат Мой и сестра и матерь". Разрыв с родными предвещал трагическую разобщенность с народом: "новая семья" была ядром становящегося Народа Божьего.
Трудно сказать, когда именно несогласные объединились против Него. Возможно, в кратком и избирательном повествовании евангелистов этот процесс показан не столь длительным, каким был в действительности. Во всяком случае, ясно, что Иисус во многом преуспел, если, конечно, мерить успех количеством слушателей, широкой известностью и восторженной молвой. Хотя, как сообщают, в родном городе "И удивился неверию их". "Пророк, — сокрушенно говорил Он, — в своем отечестве чести не имеет". Он горько сожалел о постигшей Его неудаче в городах Галилеи — в Капернауме, Вифсаиде, Хоразине. Там Он не нашел в людях раскаяния — "изменения сердца", как не нашел веры в Назарете. Должно быть, Он приобретал популярность, но не веру, не раскаяние. А у популярности, как мы увидим, были свои издержки.
Однако неудачу Он потерпел не во всем, даже с Его собственной точки зрения. Многие галилеяне услышали Иисуса и сделались Его учениками — они всей душой приняли Его учение, хотя и не всегда оставляли свои обычные занятия. Из круга этих людей вышли самые близкие ученики, которые сопровождали Его в странствиях и предоставили себя в Его распоряжение. Когда пришло время, Он поручил им активное служение, послав нести людям Радостную весть о том, что "Царство Бога близко". Очевидно, Он хотел поставить как можно больше людей перед выбором, который эта весть несет в себе.
В моем описании это напоминает "вербовку"; но, разумеется, Иисус не убеждал людей "присоединиться" к Нему, не "вносил их в список". Он собирал их в Новый Израиль. В это же самое время искало поддержки еще одно движение — национально-освободительное движение зелотов. Несколькими годами раньше хребет его был сломлен военной силой, и оно ушло в подполье. Как нам известно, зелоты не имели тогда ни организации, ни предводителей. Однако время от времени они бунтовали, а значит, силы их были не совсем уничтожены. В Галилее сложилась благоприятная обстановка для пропаганды их идей, особенно среди беднейших слоев населения. То были те же самые люди, которые слушали Иисуса. В какой-то мере и Иисус и зелоты говорили на одном языке. Как пишет Иосиф Флавий, зелоты не признавали римского владычества, ибо "считали Бога единственным Господином и Повелителем", и предпочитали терпеть неописуемые мучения, нежели "признать Господином какого-либо человека". Уже одно это напоминает идею Царства Божьего, требующего верности только Богу. Таким образом, оба движения почти соприкасались, а возможно, даже соперничали. По крайней мере один из зелотов перешел в другой лагерь и сделался близким приверженцем Иисуса. Можно не сомневаться, что среди более широкого круга учеников Иисуса были и другие люди, ранее принадлежавшие к зелотам. Как сообщает евангелист Лука, после смерти Иисуса один из Его последователей сказал с горечью: "А мы надеялись, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля". Похоже, тех, кто полагал, будто Он действительно может освободить народ, было немало.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Основатель христианства»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Основатель христианства» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Основатель христианства» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.


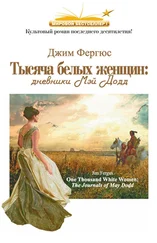

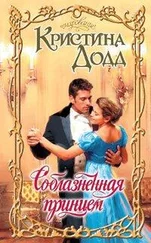

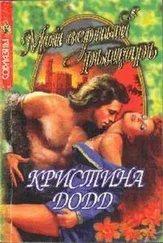
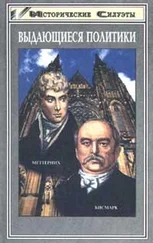

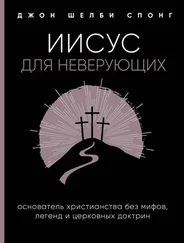
![Джиллиан Додд - Валюта любви [Отважное путешествие к счастью, уверенности и гармонии. Автобиография основательницы бренда Roxy] [litres]](/books/385370/dzhillian-dodd-valyuta-lyubvi-otvazhnoe-puteshestvie-k-thumb.webp)
