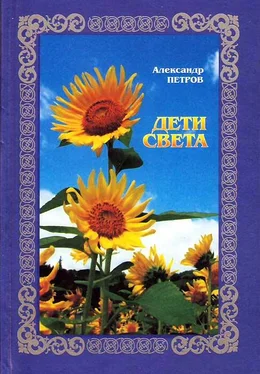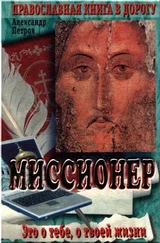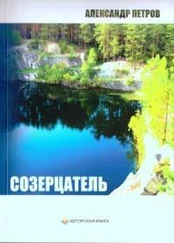— Лояльность была исключительной чертой Бродского, — добавил Лев Лосев. — Нужно было как-то уж особенно оскорбить его предательством или мелкотравчатостью, чтобы он разлюбил, раздружился…
Встал и энергично замахал руками Джон Копер, студент Амхерстского колледжа.
— На занятиях мы читали «Рифму» Баратынского:
Он знал, кто Он; он ведать мог,
Какой могучий правит Бог
Его торжественным глаголом,
― и я неверно определил, к чему относится местоимение. «Нет, — сказал Иосиф, — неправильно». Всего двумя годами раньше профессор Бродский очутился в очаровательной стране, где преподаватели таких слов никогда не произносят. В течение года Бродский стал enfant terrible (здесь: возмутитель спокойствия) Коннектикутской долины; застывшим от ужаса студентам У-Масс (университет штата Массачусетс) он говорил, что если не будут читать, они превратятся в коров.
Спустя пять лет Бродский выступал в Беркли, где я занимался сравнительным литературоведением. Мы сидели с ним в гостиной профессорского клуба. Я пришел за профессиональным советом. Стоит ли мне продолжать аспирантуру? Мои занятия казались мне все более нудными и бессмысленными. Его голубые глаза взглянули на меня с веселым удивлением. «Конечно, вам надо заниматься литературой! Посмотрите вокруг, — широким жестом он обвел китчевые «марокканские» кресла, неумолимо любезных дежурных у входа, динамики, льющие музыку наподобие той, которую слышишь в приемной у зубного врача, заспанных гостей университета, поспешающих на свои деловые завтраки, — литература дает возможность сказать этому: нет».
— Бродский, — продолжил тему Лев Лосев, — относился к своей преподавательской деятельности без особого восторга. Если бы обстоятельства позволили заниматься только литературой, не исключено, что он бросил бы регулярное преподавание, как это сделал Набоков после своего бестселлера. Так или иначе, он преподавал в американских университетах в течение 24 лет. Начал в Мичиганском, потом — Колумбийский и Нью-Йоркский. В характере Бродского не было богемности — он просто не умел быть халтурщиком и разгильдяем. Опыта у него в этом деле не было — в отличие от американских поэтов-профессоров, в отличие от Набокова, он не учился в университете. Он и среднюю-то школу вытерпел только до 8-го класса. Он не преподавал в обычном смысле слова, на своих занятиях по курсу «сравнительной поэзии» он говорил со студентами о том, что сам любил больше всего на свете, — о поэзии.
В традициях либерального образования ― свободный выбор предметов. Поэтому естественные науки, математика, языки — все, что требует усидчивости, мало интересны. Интеллектуальный багаж среднего американского студента не соответствовал ожиданиям человека традиционной европейской культуры. К тому же телевидение активно вытесняет чтение книг. Феминистские и прочие революционные протесты разрушали уважение к классике, великим книгам. С другой стороны, 18-летние американцы взрослее, самостоятельнее своих сверстников в других странах. У них меньше комплексов, больше чувства собственного достоинства, умения общаться с людьми.
Преподавательский этикет в Америке запрещает оценки обсуждаемых текстов. От них требуется изложение теории, методологии и беспристрастность. Но когда Бродский узнал, что его слушатели не имеют хотя бы общих представлений о последних двух тысячелетиях культурной истории человечества… На ломаном английском, но довольно агрессивно, американских студентов, которых никто не упрекает и не стыдит, он ошеломлял: «Народ, который не знает своей истории, заслуживает быть завоеванным». Но он и указывал им путь к спасению.
Например, он говорил: «Чтение стихов вслух, собственных или чужих, напоминает механику молитвы. Когда люди начинают молиться, они тоже впервые слышат себя. Они слышат свой молящийся голос. Если вы хотите понять стихотворение, лучше всего не анализировать его, а запомнить и читать наизусть. Поскольку поэт следует по поэтической тропе, даже, можно сказать, преследует фонетический образ, то, заучивая стихотворение, вы как бы проходите сначала весь процесс его создания».
Когда Бродский чувствовал, что у студентов головы пошли кругом от каскада сравнений и парадоксов, он говорил: «Вы ничего не знаете, и я ничего не знаю, просто мое ничего больше вашего». Или, например: «Прежде, чем я закончу это предложение, вы поймете, что английский не является моим родным языком». И снова ошеломлял их домашним заданием: «Мне бы хотелось, чтобы вы оценили здесь работу Ахматовой «Сожженная тетрадь», — действительно ли она сработала описание чего-то горящего мастерски?»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу