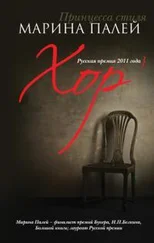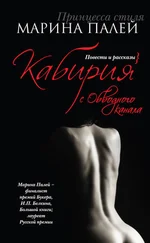Ближе к Лету, с каждым днем, подсчет упрощался. На мне сегодня: трусики, майка, платье, носочки, сандалии. А на тебе – ха! трусы, майка... покажи-ка... нет, ты покажи... ру-баш-ка! (злорадное «загинание» пальца) свитер! шаровары! носки! ботинки! А на тебе зато – еще бант! А бант – это не одежда! А вот и одежда! А вот и нет! А вот и дат! А вот и не считается! Еще как считается! Нетушки! Датушки! А я бант могу снять! вот! запросто!.. А я рубашку сниму!..
Ты слушаешь всю эту дребедень и смеешься. Иногда восклицаешь: да! точно! Потом, посмотрев в окно электрички, говоришь: а я думала, ты – полностью городская...
Это я-то «городская»? – мне смешно. – Это я-то?
...А за окном, за искристыми, сиренево-голубыми разводами, за павлиньими хвостами-хвостищами бархатного инея, мелькают пятна разной формы, размера и яркости – светофоры, дома, домишки, платформы, шлагбаумы, чащи, прогалы... И снова монолитной стеной идет лес... Я проживаю эту дорогу наизусть...
Ты очень мало обо мне знаешь, да и откуда? – ведь я, кроме прочего, старше. И много ли я о себе рассказываю? Ну, разве что сны. Поди разгадай.
Зато я знаю о тебе всё.
Или почти всё.
Глава 20
«За городом! Понимаешь? За!»
Вообще-то, если придерживаться точной хронологии, мы начали сбегать из города уже в нашу первую осень. Еще точнее: первый раз смогли выбраться лишь в ноябре, в самом его начале, когда я наконец уладила все ее беды-несчастья.
...За окном электрички медленно разворачивались мертвые поля, целиком накрытые белой накрахмаленной марлей. К полудню крахмал иногда сдавался, марля истаивала. Тогда, чуть сощурившись, можно было обмануть себя временем года.
Но в лесу обмануть себя оказывалось трудней. Там было уже по-предзимнему гулко и хрустко. Кусты, словно нищие пенсионеры, потеряв всё, отвоевали себе последнее право старости – на шипы, сучья, колючки... И на тишину. Конечно: на тишину и покой. Надклеванные птицами полусгнившие ягоды еще сиротели в осунувшихся поредевших кустарниках... На кустах малины остались к тому же белые конусообразные стерженьки, с которых давно и, видимо, очень легко была снята крупная спелая мякоть – сочная, нежная, ворсисто-замшевая. Особый сорт шиповника сохранил кое-где свои плоды, растущие словно бы двойнями: ягоды, слегка удлиненные, напоминали клешни вареных раков. Великолепный натюрморт распался бог знает когда – уже не было видно ни подноса из чуть потемневшего серебра, ни золотой спирали лимона, ни хрустальных бокалов, ни винной, в изумрудных бликах, бутыли – и только раки, чуть сморщенные, уже никому не нужные, оставались одни краснеть за весь этот разор и позор.
Я собирала желуди и потом, дома, делала ей бусы: прозрачный лак, большая игла, суровая нить, терпение и хороший вкус. Добавим сюда несколько деревянных пуговиц и завяжем декоративные, крупные, нитяные узелки... Ты красивей, чем все эти куклы из журнала «Burda»!
В разгар зимы поездки бывали другими. Наши варежки становились всё более задубелыми от непрерывного промокания ими носов. Ее пушистая, заиндевелая у щеки прядь делалась еще светлей и нежней (отмокнув, я знала, она потемнеет, обвиснет – и своей безвольной податливостью вызовет во мне жгучее желание двигать горы). И, взглядывая на эту прядь, я, всякий раз, думала: ох, вот сейчас бы сюда – граверов по серебру...
А впрочем, да ну их. Не надо нам никого. Наши тела, закутанные во множество одежд, приобретали особую твердость, свойственную физике твердого тела, а посему бодро подскакивали на звонкой, хорошо набитой дороге к Финскому заливу.
Хотя – нет: залив бывал именно завершением дня: я отчетливо помню зимний залив на закате – белое, неотличимое от берега пространство – сплошь белое безмолвие до самого горизонта...
От станции, от самой платформы, мы прямиком шли, перво-наперво, в пункт проката финских саней. Это была милая, дощатая, крашенная когда-то в голубой цвет времянка – уютно-обшарпанная, стоявшая в своей посеревшей уже чешуе среди старых, но словно бы вечных сосен. У сосен тоже была чешуя – здесь все предвосхищало рыбье царство, глубоко спавшее подо льдами залива... Да, у сосен были нарядные чешуйчатые стволы, стволы-хамелеоны, очень чувствительные к освещению: мириады их чешуек запросто меняли цвет: от розового – к нежно-шоколадному – золотистому – оранжевому – виноградно-зеленому – голубому – голубиному – сливово-сизому – фиолетовому – чернильному...
Мы брали финские санки в количестве двух штук, оставляли в залог ее студенческий билет, а также мой паспорт с круглыми штампами чашек на обложке (может быть, рюмок?) – и давали трешку.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу