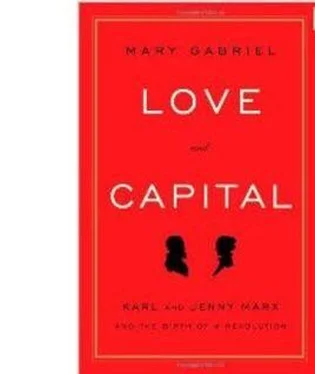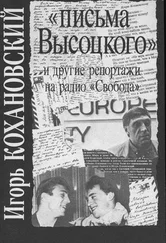Александр Генис: Постойте, Борис Михайлович, то, что происходит дальше и чем кончается, рассказывать не имеет смысла. Не лишайте тех, кто еще не читал, удовольствия.
Борис Парамонов: Да, верно, прочитайте, не пожалеете. Повторю только, что уже сказал: фантазия Пелевина сказочно богата и сказочно остроумны многочисленные его афоризмы, фразы, ''мо''. Читая эту вещь Пелевина, всё время хохочешь – и значит, удлиняешь себе жизнь, хочется этого или не хочется.
Александр Генис: Вторая повесть тоже очень хороша.
Борис Парамонов: Там некий компьютерный гений по имени Савелий Скотенков гадит американцам в Афганистане, придумав, как сбивать программы их беспилотных самолетов-''дронов''. Причем выясняется, что действует он по собственной инициативе, Москва его в конце концов дезавуирует, отзывает из Афганистана и отправляет в ссылку в родную деревню, которая давно уже заселена чеченцами и называется не Уломы (от слова ''ломать''), а Улёмы. То, что в обозримом будущем Россия станет то ли мусульманской, то ли китайской – общее место у двух нынешних знаменитых писателей: что у Пелевина, что у Сорокина.
Александр Генис: Однако мы говорим об Америке в воспроизведении Пелевина.
Борис Парамонов: Как мы увидели только что, это изображение, которое можно назвать юмористическим или даже сатирическим. У Пелевина во второй части ''Ананасной воды'' масса всякого рода издевательств над всевозможными реалиями и деталями американской жизни, причем делается это при помощи англоязычных каламбуров. Когда эту книгу Пелевина переведут на английский (а его переводят регулярно), именно англоязычные читатели будут от этого в восторге, им толковать не надо эти малопонятные для русских словесные игры. Хотя Пелевин дает подстрочный перевод и пытается объяснить соль этих каламбуров.
Александр Генис: Пелевин великолепно владеет американским английским, в чем я убедился, когда мы с ним гуляли по Нью-Йорку. При этом он знает и молодежное арго, и региональные, особенно калифонийские идиомы, и язык авангарда, и жаргон поп-культуры…
Борис Парамонов: Именно поэтому тут самое место сказать, что им, англоязычным читателям, не будет понятно само название этой книги Пелевина, даже ''ананасная вода'', не говоря о ''прекрасной даме''. Мы-то понимаем, что это отчасти от Блока, отчасти от Маяковского: ''ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй''. К тому же у Маяковского как раз словосочетание ''ананасная вода'' есть в одном стихотворении; процитирую его в смягченном варианте: ''Я лучше дамам в баре буду Подавать ананасную воду''. Очень интересная, как всегда у Пелевина изобретательная игра: то ли обслуживает иностранных клиентов, то ли пророчит скорый их конец. В словесном своем мастерстве Пелевин даже не прозаик, а поэт: поэзия и есть игра с неоднозначностью словесных смыслов, с их оттенками и боковыми значениями.
Поэтому говоря о Пелевине, нужно прежде всего иметь в виду его художественное мастерство, а не тематику. Нельзя сказать, что у него нет темы или тем: конечно, есть, и любимейшая – восточная философия.
Александр Генис: Но на первом плане тут все-таки не Восток, а именно американская тематика. Так зачем, по Вашему, Пелевину понадобилась Америка?
Борис Парамонов: Опять-таки главным образом в художественных целях. На чем сегодня вообще можно строить художественную прозу? Вспомним Мандельштама, еще в 1928 году написавшего статью ''Конец романа''. Роман всегда строился на сюжете личной судьбы, а какие сейчас личные судьбы? – писал Мандельштам.
Александр Генис: Он писал, что люди выброшены из своих биографий, как биллиардные шары из луз.
Борис Парамонов: Поэтому содержание эпохи – движения масс. Посмотрите на Египет.
Но оказалось, уже в печальном опыте соцреализма, что об этом тоже толком не написать, хотя попытки были, иногда вроде бы и удавшиеся. Сам Мандельштам считал удачным таким опытом ''Железный поток'' Серафимовича. Попробуйте прочитать это сейчас и расскажите, что у вас получилось. Разве в Украине способны прочитать и восхититься: она ж по-украински написана. Я в детстве читал: помню только ''найкрайщий край'' и ''дытына''. В театре были опыты представить массу героем – скажем, ''Оптимистическая трагедия'' Вишневского. Но ее не допустили сами большевики. Я бьюсь об заклад и готов поспорить с любым литературоведом, что в авторском варианте женщина-комиссар перед уходом матросского полка на фронт отдавалась всем матросам, это было приобщение к революции. Вместо этого цензура потребовала сделать сцену прощания матросов с любимыми в индивидуальном порядке. Не получался герой-масса – или запрещали получаться.
Читать дальше