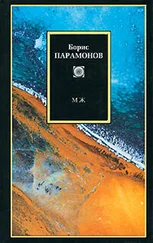Борис Парамонов - Борис Парамонов на радио Свобода- 2006
Здесь есть возможность читать онлайн «Борис Парамонов - Борис Парамонов на радио Свобода- 2006» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Старинная литература, на английском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Борис Парамонов на радио Свобода- 2006
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Борис Парамонов на радио Свобода- 2006: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Борис Парамонов на радио Свобода- 2006»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Борис Парамонов на радио Свобода- 2006 — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Борис Парамонов на радио Свобода- 2006», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Откуда пошли эти разговоры о русских как братском, христиански ориентированном народе? От Достоевского, конечно, и вот как их траспонировал Освальд Шпенглер во втором томе «Заката Европы»:
Человек Запада смотрит вверх, русский смотрит вдаль, на горизонт. Так что порыв того и другого в глубину следует различать в том отношении, что у первого есть страсть порыва во все стороны в бесконечном пространстве, а у второго — самоотчуждение, пока «оно» в человеке не сливается с безграничной равниной. Точно так же понимает русский и слова «человек» и «брат»: человечество так же представляется ему равниной… Он просто не видит звезд, он видит один только горизонт. Вместо небесного купола он видит небесный откос < … >. Под этим низким небом не существует никакого «я». «Все виноваты во всем» — вот основное метафизическое ощущение всех творений Достоевского. Поэтому и должен Иван Карамазов назваться убийцей, хотя убил другой. Преступник «несчастный» — это полнейшей отрицание фаустовской персональной ответственности. В русской мистике нет ничего от того устремленного вверх горения готики, Рембрандта, Бетховена, горения, которое может дойти до штурмующего небеса ликования. Бог здесь — это не глубина лазури там, в вышине. Мистическая русская любовь — это любовь равнины, любовь к таким же угнетенным братьям, и всё понизу, по земле, по земле: любовь к бедным мучимым животным, которые по ней блуждают, к растениям, и никогда — к птицам и звездам. Русская «воля» значит прежде всего отсутствие долженствования, состояние свободы, причем не для чего-то, но от чего-то, и прежде всего от обязанности личного деяния.
Что-то не замечалось, что русские так уж любят животных. Матвей Родионович Павлюченко у Бабеля говорит: слонов у нас не водится, нам лошадку подавай на вечную муку.
Достоевский совсем не был так прост, как притворялся в «Дневнике писателя». Это ведь он писал о всеобщей причастности к злу, о поголовной виновности людей (надо полагать, русских, другими он не очень интересовался). Получилось же: если все виновны, то невиновен никто. Вместе грешили, вместе ответ держать будем. Но перед кем ответ? Не перед собой же: чего стесняться в своем отечестве! Русское покаяние, как видно из многих русских событий, — это готовность всё бросить и ступить на новый путь. Но на этом новом пути ожидает всё та же опричнина.
Книга Сорокина кончается такими словами Комяги:
Сто не сто, а поживу еще. Поживем, поживем. Да и другим дадим пожить. Жизнь горячая, героическая, государственная. Ответственная. Надо служить делу великому. Надобно жить сволочам назло, России на радость… живы люди, живы кони, все покуда живы, ох, живы… все… вся опричнина… вся опричнина родная. А покуда жива опричнина, жива и Россия.
И слава Богу.
Книга Сорокина «День опричника» войдет — уже вошла самим фактом написания — в тот же фонд, в котором щедринская «История одного города» и «Чевенгур»: фантастическая и при этом самая правдивая картина России в ее вечной истории. Поэты (Шпенглер в том числе) делают многие ошибки, но в самое главное проникают, как никто.
О том, Государь, я смиренно прошу:
вели затопить мне по-белому баню,
с березовым веником Веню и Ваню
пошли — да оттерли бы эту паршу.
Иль собственной дланью своей, Государь,
сверши возлиянье на бел горюч камень,
чужую мерзячку от сердца отпарь,
да буду прощен, умилен и покаян.
Меня полотенцем суровым утри.
Я выйду. Стоит на пороге невеста
Любовь, из несдобного русского теста,
красавица с красным вареньем внутри.
Все гости пьяны офицерским вином,
над елками плавает месяц медовый.
Восток розовеет. Под нашим окном
Свистит соловей, подполковник бедовый.
Коня ординарец ведет в поводу.
Вот еду я, люден, оружен и конен.
Всемилостив Бог. Государь благосклонен.
Удача написана мне на роду.
Это стихотворение Льва Лосева «Челобитная».
Source URL: http://www.svoboda.org/articleprintview/271861.html
* * *
[Русский европеец Лев Лунц] - [Радио Свобода © 2013]
Лев Натанович Лунц умер в 1924 году в возрасте двадцати трех лет — пожалуй, самый молодой из русских писателей, сумевших запомниться и остаться в литературе. Был еще Владимир Дмитриев, покончивший с собой в двадцатипятилетнем возрасте, и его-таки забыли, хотя он был ярко талантлив; есть, правда, посмертный его сборник, изданный в самом начале тридцатых годов. Лунца же издали более или менее прилично только в 2004 году, то есть более чем через сто лет со дня его рождения (были зарубежные издания и одно отечественное — неполное — 1994-го года). Помнили Лунца потому, что он был участником литературной группы «Серапионовы братья» — первым послереволюционным явлением русской литературы, достаточно громко заявившим о себе. Помнили настолько, что его цитировал Жданов в пресловутом докладе о журналах «Звезда» и «Ленинград» как образчик литературной злокачественности. Лунц считался — не самими «братьями», а критиками — чуть ли не идеологом и теоретиком этой группы, хотя никакой общей идеологии, да и теории не было, под этой маркой объединились очень разные писатели. Но у самого Лунца если не идеология, то теория как раз была, и была она резко западнической. Его статья, которую принимали за манифест группы, называлась «На Запад!». Здесь Лунц призвал к переориентации самого ценного и самого оригинального из русского культурного наследия — литературы. Статья пышет молодым, очень молодым задором: как положено русскому мальчику, Лев Лунц в одну ночь переделал карту звездного неба. Несколько ее положений:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Борис Парамонов на радио Свобода- 2006»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Борис Парамонов на радио Свобода- 2006» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Борис Парамонов на радио Свобода- 2006» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.