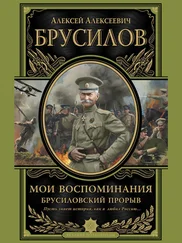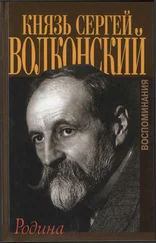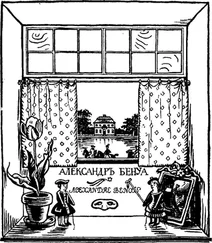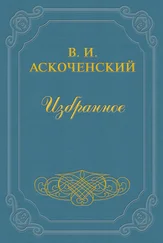Я упоминал в другой главе, что в первый раз я приехал в Италию, когда мне было 12 лет. Зиму 1872/73 года мы проводили во Флоренции. На Рождество мы поехали в Рим, к бабушке. Она жила у сына своего, брата моей матери, князя Петра Григорьевича Волконского. Мой дядя был женат на княжне Вере Александровне Львовой, известной красавице. У них в то время только что родился их третий сын, Петр; старших звали Григорий и Александр. Дядя мой, Петр Григорьевич, был человек не банальный. Странности трех поколений вылились в четвертом с новой своеобразностью. Любопытно проследить эволюцию семейных странностей. Старик Григорий Семенович, отец моего деда-декабриста и его сестры Софьи Григорьевны, был добродушный чудак; малообразованный, с большой склонностью к музыке, чисто русский тип — балагур, щедрый, с сильно развитой семейной жилкой. Дочь его, Софья Григорьевна, ничего не взяла от благодушия своего отца, кроме блестящего юмора, и то с сильной примесью ядовитости, она была полная противоположность отцу своему, но в своеобразии, в живописности, с какой это самое различие сказывалось, было отцовское наследие. Еще отличительная черта того поколения — отсутствие самонаблюдения, в отношениях с людьми большая непосредственность; им было чуждо то психологическое копание в самом себе, которое так развилось в последующих, нам современных людях. Благодаря этому они запечатлевались в памяти своих современников с большой горячностью, с сильной яркостью. Сын Софьи Григорьевны, Григорий Петрович, отец моей матери и дяди Петра Григорьевича, взял от деда его музыкальные склонности и ничего {388}от его семейных добродетелей. Он преувеличил до последних крайностей кочевую струну в характере своей матери и, можно сказать, расплескал в космополитической богеме всю русскую самородочность своего деда. Но он сберег его щедрость и ничего не взял от материнской скупости. Сын его, мой дядя Петр Григорьевич, по прозванию Питер, явил сочетание всего, что было в трех предшествующих поколениях, но прибавил к этому необыкновенную напряженность умственной деятельности в области философии. В нем было два человека. Один — легковесный, светский, нарядный, мелочной и немножко смешной в чрезмерной заботливости о внешности своей. Это был тот Питер, которого знали все: в сером цилиндре набекрень, в сером пальто, перетянутом как узкий сюртук, с тонкими усами, как у Наполеона III, и с общей выправкой французского офицера в отставке. Но был другой Питер, которого знали немногие: Питер — философ, умственный работник, с огромной начитанностью и необыкновенной памятью. К сожалению, расшатанное здоровье и совсем неуравновешенный характер исключали в нем возможность какой-либо творческой деятельности. Щедрость отцовскую он преувеличил до пренебрежения деньгами и в четвертом поколении осуществил возврат к московско-русскому уклону в форме несколько слащавого славянофильства; аксаковскую «Русь» он читал, как сам выражался, «от доски до доски»…
Впечатления римские в тот первый приезд были не так сильны, как можно было ожидать, — слишком я полюбил тогда Флоренцию. Но помню, что поразило меня, двенадцатилетнего: как много римского я уже знал по книжкам, по фотографиям, по альбомам, по копиям картин, висевшим у нас в Петербурге. И Колизей, и Форум, и фонтан Тритона, и колоннады собора Св. Петра — все это было знакомо. И перуджиниевское «Воскресение» в Ватикане я видал в спальне матери, и в станцах Рафаэля я узнал «Освобождение Петра из темницы», которое висело в гостиной бабушки. А когда я вошел в собор Св. Петра — был послеобеденный час, — я воскликнул: «Ах, вот тот самый луч солнца!» В гостинице матери висела прекрасная акварель, изображавшая внутренность собора, и с детства, не бывши в Риме, я знал луч солнца, который знают все, кто бывал в соборе Петра в этот послеобеденный {389}час: из высокого левого окна, в глубине собора, он падает, косой, над алтарем…
Внутренность собора, как ни странно, не поражает огромностью своей. Очевидно, есть какая-то математическая тайна в размерах его, но мы воспринимаем их не воображением, а разумом: только когда мы узнаем, как он велик, тогда мы и ощущаем его величину. Помню, рассказывала бабушка, один генерал приказал своему полку, уж не знаю для какой церемонии, отправиться в собор и там ждать его. Приходит в назначенный час — церковь пуста; прошел дальше — весь полк оказался в одном из боковых приделов. В середине собора, под самым куполом и над самою могилой апостола Петра, стоит алтарь, над ним, на четырех витых колоннах, сень. Сень эта совершенно незначительна размером в общей картине архитектурного пространства, а между тем витые колонны ростом равны высоте Зимнего дворца. В деревне, в Павловке, я отмерил от крыльца вверх по аллее расстояние, равное внутренности собора Св. Петра; в аллее поставил сбоку дороги камень и смотрел, когда кто-нибудь подъезжал, — как много времени нужно тройке, чтобы доехать из глубины собора до входных дверей, от того места, где, поддерживаемый четырьмя святителями церкви, под косым лучом высится престол апостола Петра.
Читать дальше