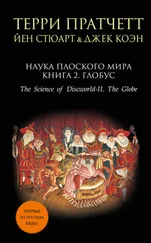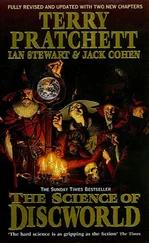На следующий день мать вела себя уже совершенно по-другому: ласково, примирительно и на обед сделала блины со сметаной, - я очень любил их. Вчера у нее опять сдали нервы, я это понял, но что мог испытать по этому поводу, кроме досады?
Дед не разговаривал со мной до самого вечера.
* * *
-Любопытно… очень любопытно, но… я мало что понял, - пьяным голосом жалуется Калядин; глаза его стараются заинтересованно сверкнуть и, в конце концов, у них получается.
-Я тоже, - кивает Дарья и странно улыбается, так, как могли бы, пожалуй, многие члены бильярдного клуба, когда узнали о смерти Кирилла Гринева.
-А по-моему классно, - говорит Таня и десять минут все обсуждают услышанное, иногда переходя на спор.
Вдруг Таня оборачивается ко мне и спрашивает:
-Где сейчас ваш брат?
Такого поворота разговора мы с Мишкой не ожидали и, оттого, инстинктивно перекидываемся взглядами.
-Что случилось?
-Видите ли… - я переминаюсь с ноги на ногу, - его больше нет, он умер.
Я отворачиваюсь, беру свою сумку и иду к дому. Затем, пройдя внутрь, достаю тетрадь и начинаю писать. Но только мне удается вывести несколько строчек, как я поднимаю голову и вижу Татьяну, стоящую в дверях.
-Можно? – спрашивает она робко, - я вам не помешаю.
Некоторое время я смотрю на нее очень внимательно и прислушиваюсь к шелесту сливы за окном; потом растягиваю губы, - не знаю, но мне все же кажется, есть какая-то доля притворства в этой улыбке.
-Уверен, что нет. Оставайтесь.
-Я не знала, что вы еще и пишете.
-Это просто мой дневник – больше ничего… послушайте… не знаю, зачем я сказал вам, что он умер, ведь на самом деле он жив-здоров.
Она непонимающе смотрит на меня, а затем, прислоняясь к стене спиной и касаясь ее ладонями, чуть наклоняется вперед. Есть что-то удивительно прекрасное в любой женщине, которая стоит в такой позе.
-Просто после смерти своего отца он уехал… наверное, навсегда. Я, признаться, никак не ожидал этого.
-Он в другой стране?
-Нет.
-Вы с ним поссорились?
Я покачал головой и, не произнося ни слова, склонился над тетрадью. Минут пять я писал, а она за мною наблюдала, и только потом вдруг я услышал ее голос, гораздо ближе, чем до этого.
-Люди меняются, не правда ли?
Я поднял голову; она сидела уже на стуле, подле меня. Как это удалось ей так тихо подкрасться?
-Возможно, - я пожал плечами и потом спросил, сам не знаю зачем, - а вы рисуете?
-Только эскизы для костюмов. Я ведь модельер, вы помните?
-Да.
-Но я интересуюсь живописью и даже покупаю репродукции.
-Это плохо. Репродукции - это даже как-то подло.
-Почему? – я думал, что она задаст этот вопрос удивленно, но ошибся: и тени удивления не было в ее голосе; наоборот, он был чрезвычайно спокоен и мелодичен.
-Забудьте о том, что я это сказал.
-Вы так не думаете?
-Нет, я так думаю, но все равно забудьте. Обсудим это потом, когда познакомимся чуть ближе.
-Хорошо. А можно мне как-нибудь прийти и посмотреть ваши картины?
-Без проблем. Когда вы можете? – спросил я.
-Завтра, например.
-Завтра у нас у всех будет изрядное похмелье, - подмигнул я ей, - давайте через день.
-Ладно.
Я ожидал, что после этого она встанет и уйдет к костру, но ошибся: Таня так и продолжала сидеть рядом; она, видно, о чем-то думала, а я все писал, заполнял строки словами, и украдкой на нее поглядывал.
Художник, рисующий портрет с натуры? Я, пожалуй, никогда не соглашусь им быть.
-А что это мы так ударились в воспоминания? Не пора ли нам прокатиться с ветерком, а? – спрашивает Мишка, когда мы с Таней возвращаемся к костру. Глаза его посоловели. Изрядно же он успел в наше отсутствие! Рука, сжимая бутылку пива, чертит в воздухе ее горлышком косые ломаные письмена.
-Ты ударялся в воспоминания? Я не заметил, - говорит Калядин; последняя струйка пива льется ему на подбородок, его бутылка пуста, и он бросает ее в огонь.
-Что это с вами? – спрашиваю я удивленно.
-До того, как вы вернулись, они опять спорили насчет Шагала, - со значением кивает мне Вадим и опирается на Дарьино плечо.
-Ах вот оно что.
-Я просто намекал ему на очевидное влияние Шагала, под которым находится его творчество, - Мишка невинно улыбается, но я вижу, как снизу подбородок его опоясывают хитрые морщинки.
Калядин подается назад; он сидит на бревне, но чуть только мыски его ботинок отрываются от земли, а телу грозит потеря равновесия, тут же срабатывает внутреннее чутье, которое обычно испаряется после четвертой бутылки и возвращается после восьмой, и Павел рефлекторно наклоняется вперед.
Читать дальше