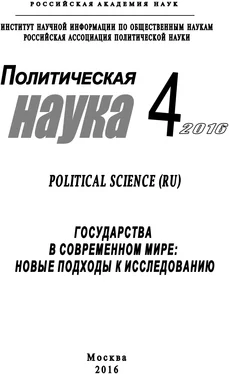В конечном счете складывается нынешняя конфигурация международной системы и сосуществующих ныне форм государственного устройства.
Сейчас ООН включает наряду с долгожителями, имеющими четырех-пятисотлетний опыт суверенов различных разновидностей (Великобритания, Нидерланды, Швейцария, Испания, Португалия, Швеция, Дания и др.), больше десятка типов иных политических образований. Одни сформировались на западноевропейских перифериях или вновь образовались путем слияния (Германия, Италия) или разделения (отделения от) исходных членов клуба суверенов (Норвегия, Ирландия, Финляндия, Исландия и т.п.). Другие были созданы как бы на пустом месте по западноевропейским лекалам (США, Канада, Австралия и т.п.). Третьи включились в международную систему со своими особыми цивилизационными традициями и специфическими структурами неевропейской политической организации (Россия, Япония, Китай и т.п.). Четвертые подверглись сложной переработке по модели «гибели-и-возрождения» (Индия, Египет и т.п.). Пятые заставили признать себя путем решительного сопротивления давлению великих держав (современная Турция, Эфиопия, Таиланд и т.п.). Шестые в разные исторические эпохи искусственно формировались великими державами (Греция, Албания, страны «малой Антанты» и т.п.). Седьмые послужили простым оформлением тех или иных территорий (Микронезия и многие другие подобные островные образования, ряд африканских государств и т.п.) при фактическом сохранении внешнего контроля – нужно было формально заполнить «бреши» в глобальной ячеистой структуре. Наконец, возникло несколько поколений и типов постколониальных политий, в большей или меньшей степени развивших альтернативные версии государственности.
Нынешняя структура ячеистого слоя стала результатом весьма прихотливого взаимодействия внешних и внутренних факторов институционального строительства. Эффекты их действия можно выявить и проанализировать с помощью довольно грубых категорий статусности и состоятельности, а также более тонкого различения внешней и внутренней формы.
Внешняя и внутренняя форма
Еще на завершающем этапе работы над «Политическим атласом современности» было констатировано, что «присоединение к международной системе все новых участников способствует появлению у них некоторых общих или аналогичных черт политического устройства, идентификации и т.п.» [Ильин, 2007]. Одновременно различались «статусность как принадлежность к сообществу государств-состояний» (statehood), а также их «состоятельность как соответствие своей собственной природе государства-состояния» (stateness)» [Ильин, 2007]. Они позволяли различить то, что получалось в результате наведения общих институциональных решений сетью (статусность), и то, что порождалось собственными возможностями отдельных ячеек (состоятельность).
В цитированной статье отмечалось, что «статусность преимущественно, хотя и не исключительно, относится к месту политий в координатной сети, т.е. к их внешнеполитическим особенностям, а состоятельность – к собственным, в основном внутриполитическим возможностям. При этом нужно учитывать, что у статусности есть и внутренние аспекты, а у состоятельности – внешние. Грубо говоря, статусность можно соотнести с разными сторонами – внешними и внутренними – признания властного режима, а состоятельность с его возможностями – тоже внешними и внутренними)» [Ильин, 2007].
Данные оговорки и уточнения только отчасти проясняли соотношение внешних и внутренних моментов государственности. Как показали дальнейшие исследования [Ильин, 2016 a; 2016 b], в значительной мере интуитивное различение статусности и состоятельности, подсказанное наличием соответствующей терминологической пары в англоязычной политической науке, находит более основательное и системное понимание с помощью общеморфологических категорий, в частности внешняя и внутренняя форма [Ильин, 2016].
Более эффективным и точным оказывается использование общеморфологических категорий внешней и внутренней формы. Хотя они еще не получили широкого признания в научном мейнстриме институциональных и сравнительных исследований, это фундаментальные категории морфологии как глубинной методологической основы подобных исследований. Вообще термины форма и формальный употребляются зачастую крайне произвольно, становятся растянутыми жужжалками (overstretched buzzwords). Они легко тривиализуются до почти полного лишения смысла. На этом фоне особенно разумно обратиться к базовым принципам морфологии в ее наиболее отчетливых, классических проявлениях.
Читать дальше