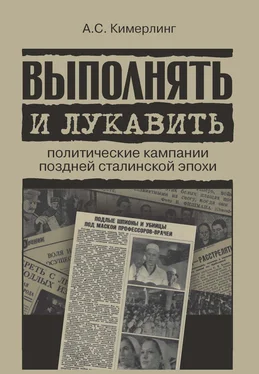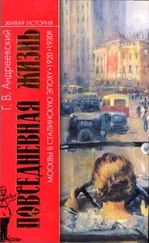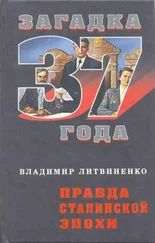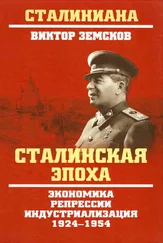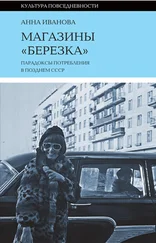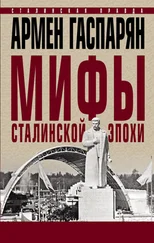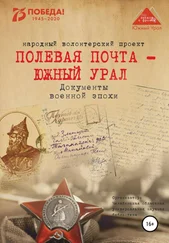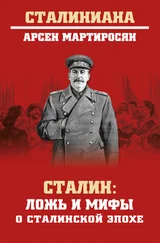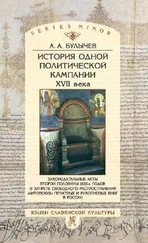1 ...6 7 8 10 11 12 ...33 Отдельно необходимо сказать о некоторых вариациях этого направления исследований. Прежде всего о междисциплинарных исследованиях, в которых делается попытка взять в качестве отдельного предмета исследования некоторые явления культуры или духовной сферы, имеющие неожиданное и злободневное звучание. В таких работах плодотворно применяются различные концепции из смежных наук (лингвистики, философии, антропологии, социологии), но отнести их к истории повседневности все же нельзя. Скорее в таких исследованиях речь идет о трансцендентальных категориях мышления, археологии знания, мифологии культуры. Так, в работе О. Хархордина «Обличать и лицемерить» делается попытка на основе анализа дискурсов советской (в основном сталинской) эпохи выяснить, как складывалась советская личность и специфическое понимание советского коллектива [95] Хархордин О. В. Обличать и лицемерить: генеалогия российской личности. СПб.; М.: Европейский ун-т в Санкт-Петербурге; Летний сад, 2002.
. В сборнике «Образ врага», составленном Л. Гудковым [96] Образ врага / сост. Л. Гудков; под ред. Н. Кондратова. М.: ОГИ, 2005.
, дается представление о генеалогии и бытовании одного из краеугольных образов советской пропаганды. В работе С. Бойм «Общие места: Мифология повседневной жизни» [97] Бойм С. Общие места: Мифология повседневной жизни. М.: Новое литературное обозрение, 2002.
проводится критический анализ мифологических представлений советской повседневности («мещанство», «быт», «русская душа»). В работе Л. Гудкова «Нега тивная идентичность» дается анализ условий и этапов становления идентичности советского общества [98] Гудков Л. Негативная идентичность. Статьи 1997–2002 годов. М.: Новое литературное обозрение, 2004.
. В рабо те И. Жереб ки ной «Феминистская интервенция в сталинизм, или Сталина не существует» предпринята попытка выявить комическое в сталинском тоталитаризме и зарождение русского феминизма в недрах сталинского общества [99] Жеребкина И. Феминистская интервенция в сталинизм, или Сталина не существует. СПб.: Алетейя, 2006.
. В сборнике «Проектное мышление сталинской эпохи» [100] Проектное мышление сталинской эпохи / сост. М. П. Одесский. М.: Российский гос. гуманит. ун-т, 2004.
анализируется статус науки и ее роль в становлении идеологии данного периода.
В рамках этого направления можно отметить и другие случаи позитивной «интервенции» на историческое поле со стороны представителей других наук. Например, опыт анализа языка Н. Купиной [101] Купина Н. А. Тоталитарный язык: словарь и речевые реакции. Екатерин бург; Пермь: Изд-во Уральского ун-та – ЗУУНЦ, 1995.
, Б. Сарнова [102] Сарнов Б. Наш советский новояз. Маленькая энциклопедия реального социализма. М.: Материк, 2002.
, жанровый анализ Е. Суровцевой [103] Суровцева Е. В. Жанр «письма вождю» в советскую эпоху (1950-е – 1980-е гг.). М.: Изд-во «Аиро – XXI», 2010.
, анализ развития городов в сборниках «Город и деревня…» [104] Город и деревня в Европейской России: сто лет перемен. М.: ОГИ, 2001.
и «Пермь как стиль…» [105] Пермь как стиль. Презентации пермской городской идентичности / под ред. О. В. Лысенко; вступ. ст. О. Л. Лейбовича. Пермь: Редакционно-издательский совет ПГГПУ, 2013.
, исследование политических закономерностей развития в коллективных трудах А. Ахиезера, И. Клямкина, И. Яковенко [106] Ахиезер А., Клямкин И., Яковенко И. История России: конец или новое начало? М.: Новое издательство, 2005.
и В. Ильина, А. Ахиезера [107] Ильин В. В., Ахиезер А. С. Российская государственность: истоки, традиции, перспективы. М.: Изд-во МГУ, 1997.
.
Такие способы конструирования объекта и предмета исследования в одно и то же время и существенно расширяют наше знание и представление о сталинской эпохе, и ставят новые вопросы и тем самым открывают путь к новым способам анализа исторических источников и новым способам концептуализации истории.
1.6. Историография кампаний
Историография кампаний иная. С одной стороны, мало найдется книг по сталинской эпохе, в которых не упоминалось бы о кампаниях. Это и не удивительно, поскольку кампании еще со времен военного коммунизма стали неотъемлемым элементом управления Советского Союза. «“То на скаку, то на боку”, “то лежим, то бежим”, “сначала спячка, потом горячка” – эти поговорки, являясь символом кампанейского подхода, отражают важный стереотип мышления и поведения как политиков самого высокого уровня, так и обычных “маленьких” людей» [108] Ульянова С. Б. «То на скаку, то на боку»: Массовые хозяйственно-политические кампании в петроградской/ленинградской промышленности в 1921–1928 гг. СПб.: Изд-во Политех. ун-та, 2006. С. 4.
, – пишет С. Ульянова, один из историков, посвятивших свою работу кампаниям. Однако чаще всего кампании в работах появляются либо как фон (предпосылка) описываемых событий, либо как последствие воздействия каких-то факторов. Примером первого типа может стать сборник «Подвластная наука? Наука и советская власть», где даже названия отдельных статей звучат в этом ключе: «“Великий перелом” и геохимия» [109] Тугаринов И. А. «Великий перелом» и геохимия // Подвластная наука? Наука и советская власть / сост., науч. ред. С. С. Неретина, А. П. Огурцов. М.: Изд-во «Голос», 2010. С. 243–278.
, «Физики и борьба с космополитизмом» [110] Томилин К. А. Физики и борьба с космополитизмом // Подвластная наука? Наука и советская власть / сост., науч. ред. С. С. Неретина, А. П. Огурцов. М.: Изд-во «Голос», 2010. С. 411–467.
. Логика такого рода исследований проста: «в это время шла очередная кампания, она затронула героев так-то и так-то». Примеры второго типа тоже можно встретить в изобилии. Вот один из них: «…к концу 40-х годов престарелый и страдавший от многочисленных хронических недугов диктатор окончательно превратился в патологического юдофоба, которому повсюду стали мерещиться происки, заговоры сионистов. Особенно наглядно это проявилось в “деле врачей” 1953-го года» [111] Костырченко Г. В. Тайная политика Сталина: власть и антисемитизм. М.: Международные отношения, 2001. С. 707.
. И дело не в том, что авторы неправы: разумеется, проходящие кампании оказывали самое непосредственное воздействие на людей, социальные группы и институты, а отдельные кампании действительно могли быть спровоцированы личными пристрастиями вождя, злободневными проблемами или идеологическими установками. Дело в том, что при таком подходе ускользает одна важная деталь: сами по себе политические кампании являются целостным историческим явлением, определенным шаблоном политики, который, однажды возникнув, повторяется раз за разом, причем не только в рамках сталинской эпохи, но и много позже нее. Именно это и делает изучение кампаний актуальным для исторической науки.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу