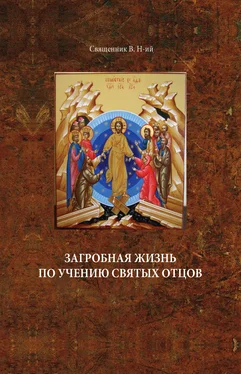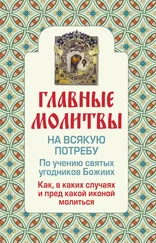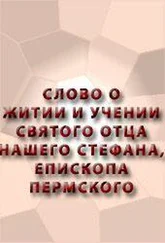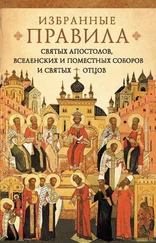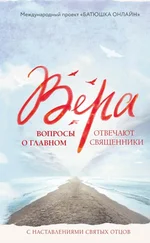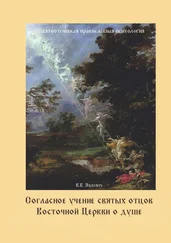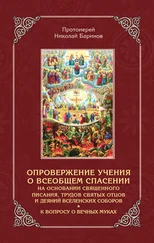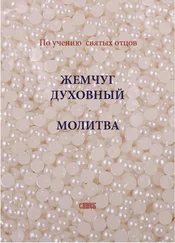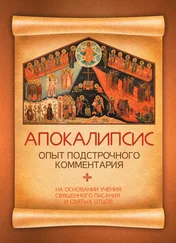Доказательства бессмертия души, почерпнутые из рассмотрения природы и общего убеждения в бессмертии
Если кто сомневается в том, что жизнь человеческая будет продолжаться и по смерти человека, то для удостоверения его, что так может быть и будет, можно заставить говорить окружающую нас природу. В природе, этой великой книге Божией, в которой через рассматривание тварей, составляющих ее буквы, можно видеть невидимое (Рим. 1, 20), каждая буква ее, каждая тварь Божия говорит, что человек бессмертен. Вот как говорит об этом в одном из своих слов наш знаменитый проповедник Филарет, митрополит Московский. «В целом мире, – проповедует он, – нельзя найти никакого примера, никакого признака, никакого доказательства уничтожения какой бы то ни было ничтожной вещи; нет прошедшего, которое бы не приготовляло к будущему; нет конца, который бы не вел к началу; всякая особенная жизнь, когда сходит в свойственный ей гроб, оставляет в нем прежнюю, обветшавшую одежду телесности, а сама выходит в великую, невидимую область жизни, дабы паки явиться в новой, иногда лучшей и совершеннейшей одежде» [1] Филарет, митр. Москов. Слово в день воскр. и свят. Алексия. Слова и речи. Ч. 1. М., 1844, с. 215.
.
Посмотрим, например, на солнце. Вот оно утром, как бы рождаясь, выходит на небо; в полдень, как бы возмужавши, сияет оно с полным блеском и силой; к вечеру, подобно старцу, теряет свой жар; а потом, как бы умирая, заходит под землю. Но не меркнет дневное светило, когда оставляет наш горизонт во мраке ночном; нет, оно светит по-прежнему, только по другую сторону земли, и наутро снова рождается для нас с тем же блеском.
Или взглянем на землю. Весной она, как дева, является во всей красоте; летом, как матерь, приносит она плоды; осенью она истощается в силах, как старица; а зимой покрывается снегом, будто умершая – саваном. Но не теряет земля своей жизненной силы, когда поверхность ее замерзает от холода; снова на ней наступит весна, и тогда, сбросив с себя снеговое покрывало, явится она в новой красе, с той же животворной силой.
Посмотрим ли на травы полевые, на которые и Спаситель указывал в назидание людям (Лк. 12, 27, 28), и они, подобно нам, рождаются, растут, а потом увядают и тлеют в земле, но не уничтожаются: из праха их вырастают новые травы. Вообще, на что ни посмотрим в природе, все в ней умирает и ничто не гибнет; но, что истлевает в одном существе, то обновляется и живет в другом. «Если твари низших степеней, – восклицает тот же проповедник, – разрушаются для воссоздания, умирают для новой жизни: человек ли, венец земли и зеркало неба, падет во гроб для того только, чтобы рассыпаться в прах, безнадежнее червя, хуже зерна горчицы? [2] Там же.
В непреложных, неизменных законах Божиих, по которым в творении все явления исчезают и снова рождаются, человек может видеть для себя залог своего бессмертия, вечное, небесное ручательство за свою будущую жизнь, за свое посмертное бытие.
От наблюдений над бессловесной и неразумной природой обратимся к сознанию разумного существа – человека. От сотворения мира и до настоящего времени в человеческом роде сохранялось и сохраняется убеждение, что жизнь человека по смерти его не прекращается. Всегда и везде все люди, на какой бы ступени развития и просвещения ни находились, от дикаря до первого мудреца, единодушно сознавали бессмертие человека и его загробную жизнь. Язычники, как ни грубы, как ни чувственны, как ни полны заблуждений были все их религиозные понятия, всегда верили в действительность будущей жизни [3] Макарий, еп. Орлов. и Севск. Понятия древних язычников о состоянии душ в будущей жизни. «Странник». 1868. 3, 132 и дал.
.
И лучшие из язычников, выделявшиеся по своему умственному и нравственному развитию, видели сами в этом общем, повсюдном и всегдашнем веровании ясное доказательство и явное свидетельство в пользу действительности бессмертия человека. Христианские древние писатели, как например, св. Иустин, философ и мученик [4] Иустин. Апология. 1,24.
, св. Иоанн Златоуст [5] Иоанн Злат. Беседа о совершенной любви.
, и наши православные богословы [6] Филарет, митр. М. Слово в д. воскр., и св. Алекс. Слова и речи. М., 1844. Ч. 1, с. 214. Иннокентий, архиеп. Херс. Мысли о бессмертии. «Странник», 1864. 2, с. 61.
также видят в общем веровании народов в будущую загробную жизнь одно из доказательств действительности ее. Но язычники имели не только одно отвлеченное верование в будущую жизнь, или, вернее сказать, предчувствие ее; нет, они и заботились о ней, стараясь оставить по себе память в потомстве. Все они, особенно великие люди заботились о сохранении своего имени в следующих за ними поколениях, поэты и философы – в своих сочинениях, цари и полководцы – в своих деяниях, различных памятниках и грандиозных постройках. Что все это доказывает, как не полную уверенность язычников в имеющей настать по смерти иной, загробной жизни? Иначе к чему бы прилагать столько забот к тому, что будет по смерти, если самое существование их прекратится вовсе?.. Откуда же такое согласие у язычников относительно будущей жизни? Как оно могло возникнуть? Без сомнения, вера в будущую жизнь распространялась по преданию, но где начало этого предания? Несомненно, или в природе человеческой есть побуждения верить в другую жизнь, или эта вера получена свыше. Философ древности Цицерон, указав на эту общую веру, прибавляет: «Более всего убеждаемся всей древностью, которая, конечно, тем лучше видела, чем ближе была к началу и божественному происхождению». Эта живая уверенность древности в бессмертии человека побуждает нас обратиться к ней и у нее искать ответа на вопрос, где начало веры человека в загробную жизнь. Обратимся для этого к первым дням существования человека на земле; рассмотрим повествование Моисея об этих днях.
Читать дальше