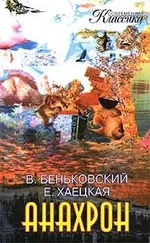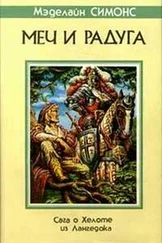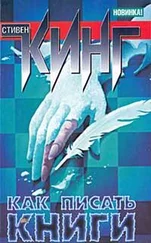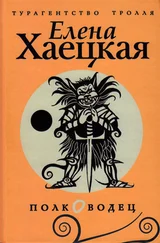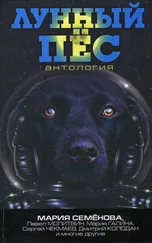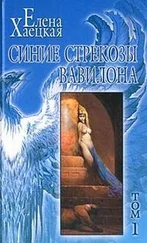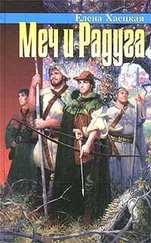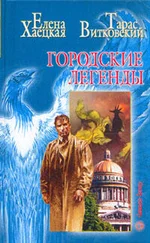В редакции произошел разговор, во время которого меня пытались уличить в том, что я плохо разбираюсь в реалиях древнеримского мира. Описываю римлян прямо как каких-то американских наемников. «Почему они ходят у тебя в сапогах?» — «А в чем ходили римляне?» — «В сандалиях». — Нет, товарищи, римляне ходили в том, что у них называлось «калигами». Знаете такого императора — Калигулу? Его прозвище означает — «Сапожок». Под воздействием такого аргумента мой оппонент притих. Но тут же оживился (бывают такие мужчины в редакциях, которые считают своим долгом непременно уличить женщину-писательницу в каком-нибудь косяке). «А вот почему ты пишешь, что римляне ходили в куртках?» — «Могу написать, что в лориках». — «А что такое лорика?» — «Куртка».
Не хочу сказать, что была абсолютно права, приближая римлян к нашему времени и используя замену римских слов русскими, общеупотребительными. Не вполне прав был и оппонент. Вопрос навек остается открытым.
В историческом романе необходимо какое-то количество слов, принадлежащих не к нашему, а к описываемому миру. Об этом хорошо говорил И.Ефремов в предисловии к «Таис Афинской». Он говорил, что вначале читатель, быть может, испытает некоторые трудности, постоянно встречаясь с незнакомыми словами. Но он специально все эти слова поместил в первые главы и дал им там объяснение, чтобы потом уже читатель свободно ориентировался в представленном ему мире. И действительно, все термины, введенные автором в «Таис», мгновенно усваиваются и потом уже читатель чувствует себя среди всех этих гетер и диадохов совершенно своим человеком. Вот пример того, как писатель блестяще разрешил проблему.
Необходимо учитывать, что читатель многие термины уже знает. Ему знакомы гизарма, меч в полторы руки, багинет, он в курсе, что такое барбетта, как выглядит максимилиановский доспех, что кладут в реликварий и т. п. Знает он, кого из центурионов называют примипилом, чем командует легат, сколько душ в легионе и что такое ала. Наиболее продвинутые даже знают, что римские солдаты начиная с определенной эпохи НОСИЛИ ШТАНЫ! В общем, подкован наш читатель, по меньшей мере на два копыта. Поэтому не рискуйте получить этими копытами по голове, не объясняйте ему общеизвестное. Добавьте пару-тройку менее известных терминов и погарцуйте рядом; на этом — всё.
Отдельный вопрос — термины, которые автором придуманы или собраны с миру по сосенке для создания колорита собственного мира.
Так, в фэнтези-мире Катарины Кэрр (я редактировала несколько книг цикла, а всего их вышло восемь) используется по большей части адаптированная к фэнтези-среде терминология раннего кельтского средневековья. Много всяких интересных и загадочных слов можно найти во всенародно любимом «Ведьмаке». Там это сделано достаточно аккуратно и умело.
Я считаю, что крайне неудачно загромождает терминологией свои романы Вера Камша. Видит Кром (а также Митра), я читатель терпеливый. Но даже моего терпения не хватило продраться сквозь практически иностранный язык, которым была написана какая-то ее книга (начала читать и оставила на тридцатой странице — не получилось). Я знаю, что есть любители, в том числе и таких продуманных, насыщенных терминологией миров. Я не из их числа. Если мне приходится читать книгу, мучительно заучивая слова, то и дело лазая в глоссарий (некоторые гуманисты делают такое доброе дело и выписывают непонятные слова в столбик), — значит, я не отдыхаю. Я снова в школе.
И опять же, верю: есть любители учиться. Не знаю, меньше их или больше, чем любителей бегать глазами по строчкам, попивая пиво и время от времени переводя взор на буколический пейзаж.
Поэтому умножая в книге термины, знайте меру и будьте аккуратны.
Желательно даже в фэнтези-мирах не сильно смешивать термины из разных миров. Что-то сочетается, что-то — не очень. Милитаризированный римский мир идеально сочетается с миром космических наемников. Мир бойскаутов слабо сочетается с миром кельтских друидов. Конечно, можно поднапрячься и сочетать, но зачем? Лучше обратить свои творческие силы на создание выразительных и ярких персонажей, чем на эту эквилибристику, от которой все равно мало проку. В конце концов, как ты лорику ни назови, она останется курткой.
Существует еще так называемый публицистический стиль.Этим стилем (в идеале) пишутся газетные статьи. Во всяком случае, так было раньше. Поскольку, как я уже говорила, все свои тетради, учебники и конспекты я давным-давно потеряла, а знания, полученные в вузе, за двадцать лет работы успешно трансформировались в моей голове, буду излагать своими словами — и так, как мне это удобно именно в работе.
Читать дальше