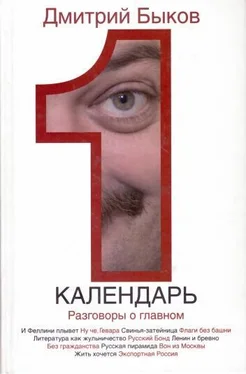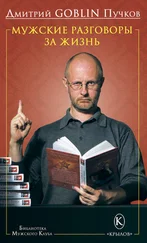Недавно в одной сетевой дискуссии (где осталось дискутировать? — не в кухне же, она у меня малогабаритная) меня назвали ленинцем. Не вижу в этом ничего обидного, хотя и не убежден, что был бы ленинцем в ленинские времена. При выборе бесконечно терпеть распад и гниение либо попытаться раскочегарить «мировой пожар» — верного варианта нет: в болоте, как известно, перегнивает все, а в огне кое-что может уцелеть и даже возродиться. Вечно «благословлять власть, ограждающую нас штыками от ярости народной», как призывал Гершензон, — значит не видеть, как она же разжигает эту ярость народную, дабы использовать ее как пугало. Ленин разжигал свой пожар не для того, чтобы жечь оппонентов на медленном огне. Мучительство не было для него самоцелью. И бревно он таскал не для того, чтобы давить этим бревном несогласных, и даже не для личного коттеджа — много ли в России таких примеров?
«Миллионы оплакали его смерть, надо было оплакать рождение», — писал Алданов. Хороший был писатель, а все-таки не Алексей Толстой. Толстой, как считают многие — и я в их числе, — изобразил его в роли маленького и азартного диктатора Гарина. Толстой (да и Булгаков в «Роковых яйцах») видел его экспериментатором с волшебным лучом, авантюристом с гиперболоидом. Кажется, это все-таки наследие романтического серебряного века. Лично я вижу его с бревном. И это, как хотите, не худший вариант, особенно если помнить, где мы живем.
25 апреля
Родился Александр Шаров (1909)
К столетию Александра Шарова появилось несколько публикаций, вспомнили главным образом его сказки, книгу очерков о сказочниках «Волшебники приходят к людям», дружбу с Чичибабиным и Галичем — словом, раннеперестроечный набор плюс некоторая советская ностальгия. Очень хорошо уже и то, что о Шарове заговорили вообще. В конце концов, сборник его сказок и фантастики лежит без движения в «Астрели» уже год, предисловие написал Борис Стругацкий, книгу составил Владимир Шаров, которого, слава Богу, никому представлять не надо и который приходится А.И. родным сыном, доказывая, что природа отдыхает на детях далеко не всегда (кстати, почему-то именно у детских писателей эта закономерность срабатывает редко: дети Драгунского — Денис и Ксения — ничем не уступают блистательному отцу, Николай и Лидия Чуковские писали отличную прозу, и как бы я ни относился к братьям Михалковым, бездарями их не назовет и заклятый враг). Теперь, может, дело сдвинется, и сказки его, не издававшиеся двадцать лет, вернутся к читателю; но вопрос о шаровском чуде, о его механизмах остается. Множество читателей моего поколения опознавали свой, так сказать, карасс по цитатам из «Ежиньки» или «Мальчика-одуванчика», но я никогда не задумывался, почему так выходит и в чем вообще шаровское ноу-хау. Я просто читал все, что у него выходило, — не только сказки, разумеется, но и фантастику, и взрослую реалистическую прозу, и воспоминания. В детстве особенно точно опознаешь все качественное — ребенок, хоть ты его выпори, не станет читать тухлятину, у него собачий нюх на подлинность, до всякой рефлексии. Скажем, дочь моя легко и без всяких понуканий читает Пелевина с девятилетнего возраста, Алексея Иванова — с двенадцатилетнего, а там подоспели Кафка с Акутагавой, тогда как читать девчачьи любовные романы или женские детективы ее не заставила бы никакая сила. Я читал Шарова и плакал над его прозой, совершенно не задумываясь, «как это сделано», и с тех пор не успел задать себе этот вопрос. Попробуем хоть сейчас.
Лет в пятнадцать в сборнике повестей и статей «Дети и взрослые» (вышедшем в 1964 году и почти никем не замеченном — он нашелся в пансионатской библиотеке) я обнаружил изумившую меня тогда повесть «Хмелев и Лида». Это история тяжелораненого, которого забрала домой санитарка. Ей показалось, что она его любит, ее прельщала, так сказать, возможность подвига, и вот она его берет, а между тем никакой любви к нему в этой правильной, насквозь лицемерной советской девушке нет, есть потребность в самоуважении за чужой счет, и только. Сорокалетний майор Хмелев, у которого ноги не действуют, целыми днями лежит пластом в чужом доме, чувствуя, насколько его тут не любят и не хотят. Единственная для него отдушина — разговоры с соседским мальчиком, которому он вырезает игрушки. И вот эта история насильственного, лицемерного добра, столь нетипичная для советской прозы, здорово меня встряхнула — получилось, что самое славное дело, сделанное из ложного побуждения, ничего не приносит, кроме яда. Может быть, здесь корень моей ненависти к публичной благотворительности. Потом Хмелев умирает, Лида переезжает, автор возвращается в город, где все это случилось, смотрит на новостройку, выросшую на месте Лидиного барака, и меланхолически замечает: «Многое изменилось за эти годы». В подтексте — в описании новостройки, в картине нового, более удобного, но уже совершенно лишенного души позднесоветского мира угадывалась, однако, некая подспудная тоска по сороковым: да, полно было насилья и вранья, но хоть представление о подвиге было, а теперь и этого нет, проблема не решена, а просто снята, словно фигурки в недоигранной партии смахнули с доски.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу