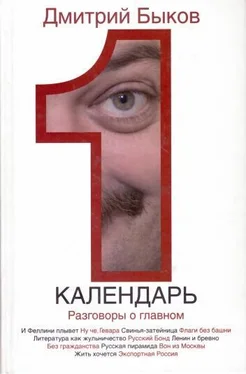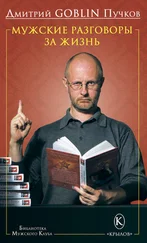Поражает в его прозе прежде всего несоответствие между «матерьялом и стилем», по формуле Шкловского, или, точней, между материалом и уровнем. О таких мелких вещах нельзя писать великую прозу, а у Трифонова она была истинно великой, во всяком случае начиная с «Обмена» (1969). Даже такие мудрецы, как Твардовский, поначалу не поняли замысла, достаточно очевидного для любого вдумчивого читателя: Трифонов сам в «Записках соседа» с некоторым изумлением цитирует совет главного редактора «Нового мира»: «Зачем вам этот кусок про поселок красных партизан? Какая-то новая тема, она отяжеляет, запутывает. Без нее сильный сатирический рассказ на бытовом материале, а с этим куском — претензии на что-то большее… Вот вы подумайте, не лучше ли убрать».
Слава Богу, Трифонов «был убежден в том, что убирать нельзя». Во всех «Городских повестях» история присутствует напрямую, по контрасту с ней и становится ясна душная ничтожность мира, каким он стал. Трифонов ненавидел, когда его называли мастером «бытовой прозы», резко говорил в интервью, что бытовой бывает сифилис, и городская его проза, несомненно, не о быте, а скорей об отсутствии бытия. На эту формулу он, вероятно, тоже обиделся бы, одна цитата из его интервью прямо отвечает на это предположение: «Есть люди, обладающие каким-то особым, я бы сказал, сверхъестественным зрением: они видят то, чего нет, гораздо более ясно и отчетливо, чем то, что есть. Мы с вами видим, например, Венеру Милосскую, а они видят отрубленные руки и кое-что, чего Венере не хватает из одежды. Между прочим, критики такого рода есть не только у нас, но и за рубежом. Иные статьи читаешь и изумляешься: вот уж поистине умение видеть то, чего нет!»
Но здесь описан совершенно правильный способ читать трифоновскую прозу, и в его обычной зашифрованной манере ключ указан недвусмысленно. Страшная густота, плотность, точность трифоновского «бытовизма» особенно наглядна на фоне его вечной тоски по живой истории, по осмысленному бытию — и потому в «Обмене» присутствует поселок красных партизан, и мать героя, старая коммунистка, выступает олицетворением совести. Это ведь она сказала: «Ты уже обменялся». А Ребров из «Долгого прощания» занимается нечаевцем Прыжовым и Клеточниковым, агентом народовольцев в Третьем отделении, и вообще историей народовольчества, о котором Трифонов напишет в 1973 году совсем небытовое «Нетерпение». А в «Старике», романе, получившемся из двух задуманных повестей, тема борьбы за место в дачном кооперативе проходит на фоне Гражданской войны, мнимого мироновского восстания на Дону; а Сережа из «Другой жизни» занимается все той же историей провокаций, историей Охранного отделения (о которой Юрий Давыдов в это же самое время писал «Глухую пору листопада», ставя диагноз не столько той, сколько своей собственной эпохе). История и придает коротким трифоновским повестям их знаменитый объем.
Поэтика Трифонова — по преимуществу поэтика умолчаний. Его тоска — тоска по действию. Ужас «Предварительных итогов» — вероятно, самой беспросветной повести цикла — в том, что даже уход героя из семьи не состоялся, даже иллюзия поступка невозможна, все вернулось на круги своя. А ведь мир уже выродился — в нем не осталось места ни состраданию, ни любви, ни элементарному такту. Весь Трифонов — о внеисторическом существовании; и тут возникает вопрос — он что же, предпочитал коммунаров?
Получается так.
Но ведь в это же время многие их предпочитали, большая часть шестидесятников, коммунарских детей. И Окуджава пел «На той единственной гражданской». Напрямую оправдывать комиссаров было как бы не комильфо, потому что все помнили, чем кончилось комиссарство, и считали террор тридцатых прямым следствием революции, да и Гражданская война была, прямо скажем, не бескровной. Но идея свободы витала, и Давыдов писал о народовольцах, Икрамов — о декабристах (его детский роман «Пехотный капитан» был настольной книгой для нескольких поколений), а Мотыль о тех же декабристах снимал «Звезду пленительного счастья», а Окуджава писал «Глоток свободы» и «Кавалергарда век недолог»… Никому не было дела до того, что из освободительного движения в России получается новое, усиленное тиранство: оно в России получается из всего. Вячеслав Пьецух в «Роммате» показал это очень убедительно и декабристскую романтику как бы развенчал — но вот именно как бы. Потому что ценность декабризма не в «Русской правде» и не в утопических идеях государственного переустройства, и не в том, что Якушкин, казалось, молча обнажал цареубийственный кинжал. Ценность его — в самоотверженной, самоубийственной готовности взять и переломить историю; а поскольку результат всегда более или менее одинаков — приходится ценить вот эту декабристскую готовность переть против рожна, то вещество идеализма и нонконформизма, которое при этом выделяется. Трифонов готов был оправдывать комиссаров во имя отца, которого обожал, во имя поколения, к которому принадлежал. Это было поколение, воспитанное на комиссарских идеалах, описанное в «Доме на набережной» с откровенной, несвойственной ему прежде нежностью. Антон Овчинников (списанный с Льва Федотова) — это и есть идеальный гражданин будущего, этот сочинитель романов, любитель оперы, инициатор беспрерывных испытаний на храбрость и прочность. Это поколение — 1924―1925 годов рождения — было выбито почти поголовно. Но уцелевшие создали великую науку и не менее великую литературу.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу