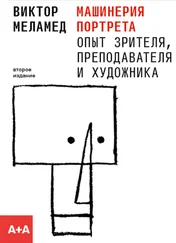Не помню уже сейчас, кто мне рассказывал, что ему довелось увидеть Мейерхольда за несколько лет до революции в качестве главного режиссера императорских театров Петербурга за кулисами в Мариинском театре. Посетитель некоторое время ожидал в приемной, а затем из двери кабинета вышел величественной и быстрою походкой Всеволод Эмильевич, одетый в визитку, которая, как известно, очень ему шла. Кто видел хотя бы воспроизведение портрета работы Бориса Григорьева, на котором Всеволод Эмильевич изображен во фраке, может себе представить, как строгий и нарядный покрой черного одеяния с длинными острыми фалдами удачно подчеркивал изящную и тонкую фигуру режиссера…
При появлении такого сановника единым движением поднялись со своих стульев престарелые капельдинеры, дежурившие у кабинета. Этих капельдинеров выбирали из числа состарившихся унтер-офицеров гвардии. Высокие представительные ветераны в придворной форме — ливрея, расшитая золотым галуном с черными императорскими орлами, в сущности таким же, что и на погонах адмиралов, — обладали истинно гвардейской выправкой и умением выполнять «артикулы» субординации с блеском. А Всеволод Эмильевич вел себя вполне достойно для этакого ритуала. Он величественным жестом пригласил посетителя к себе. Заметно было, что главному режиссеру не в диковинку эффект его появления перед капельдинерами. Главный режиссер заранее обдумал этот эффект…
Много раз было уже сказано, что Мейерхольд сразу после Октября перешел в лагерь революции. Он вступил в Коммунистическую партию. И — что тоже очень характерно для Мейерхольда — в качестве выразительного признака своей принадлежности к красным режиссер стал носить красную феску, — это ли не заменяет человеку соответствующий флаг?..
А через некоторое время вместо фески появилась «буденовка»— форменный армейский шлем из шерстяной ткани защитного цвета со звездой из приборного сукна, нашитою повыше козырька… К буденовке добавлялась и шинель того времени «с разговорами»: так именовались в быту три поперечных (чуть наискось) нашивки из цветного сукна на груди. Пехотинцы носили красные звезды на шлемах и такие же «разговоры», кавалеристы — синие, летчики — голубые, артиллерия и технические войска — черные. Разумеется, у Мейерхольда и «разговоры» и звезда были, как у пехоты: ведь он сделался отныне красным режиссером!
В этой связи надо рассматривать и лозунг Мейерхольда «Театральный Октябрь», который он выбросил в 1920 году, будучи заведующим ТЕО (т. е. театральным отделом) Наркомпроса. Он искренне полагал необходимым в искусстве совершить такую же ломку всего, оставшегося от прошлого, как и в политике, в экономике, в быту…
Мейерхольд вносил в эту свою деятельность присущую ему театральность. Мне рассказывали, что когда ученик Всеволода Эмильевича — Н. П. Охлопков в 1953 году был назначен заместителем министра культуры СССР по всем главкам, связанным с кинематографией, кто-то из друзей спросил его: как он справляется с делами в качестве такого высокопоставленного руководителя?.. Охлопков гордо откинул голову и ответил:
— И царей приходилось играть.
Мейерхольд тоже в значительной мере «играл» в «Театральный Октябрь». Но так как революция смела и разрушила столь многое из прежних установлений, то Всеволод Эмильевич намеревался ликвидировать и дореволюционные театры, которым очень скоро правительство присвоило титул «академических». Попытки Мейерхольда закрыть Большой и Малый театры, МХАТ и Камерный театр не могли быть осуществлены: А. В. Луначарский поддерживал эти коллективы, да и весь Совнарком был на стороне «аков», как их называли в те дни, применяя сокращенные названия…
Однако руководителям «актеатров» Мейерхольд много попортил крови. Ведь неясно было, кто одолеет. Луначарский и Ленин не принимали всерьез планы Мейерхольда. Но в печати не было возражений на бурные речи и публиковавшиеся даже в солидных изданиях статьи приспешников «Театрального Октября».
Помню, однажды вечером, летом 20-го года, я шел от Иверских ворот к Охотному ряду. А из Александровского сада — явно после заседания в Театральном отделе Наркомпроса, помещавшемся на Неглинной (ныне Манежной) улице, — возвращались домой К. С. Станиславский, А. И. Южин, А. Я. Таиров и Л. В. Собинов. Они передвигались быстро, тихо и встревоженно переговариваясь на ходу и тесно прижавшись друг к другу. Ясно было: только что им задана была в ТЕО новая задача, которую решить не так-то легко. А не решишь — нанесешь непоправимый ущерб родному театру…
Читать дальше

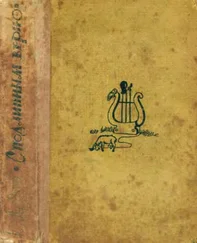
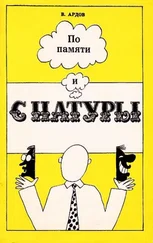


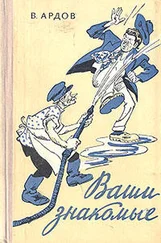


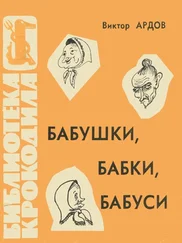
![Виктор Ардов - Терем-теремок [Юмористические рассказы]](/books/405146/viktor-ardov-terem-thumb.webp)
![Виктор Меламед - Машинерия портрета. Опыт зрителя, преподавателя и художника [litres]](/books/437203/viktor-melamed-mashineriya-portreta-opyt-zritelya-p-thumb.webp)