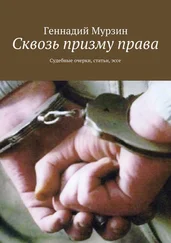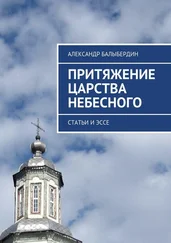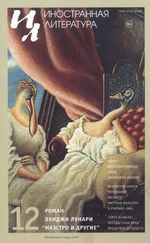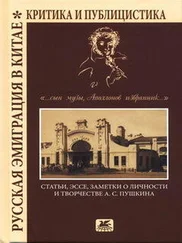Я перечитывал Гольдштейна, работая над собственной прозой, читал по странице, иной раз по нескольку фраз, больше и не надо было, нельзя, когда чтение требует сотворчества, встречного труда, напряженной внутренней работы — и какими же приобретениями отзывалась эта работа! («Неотчужденное чтение» — назвал Гольдштейн одно из эссе).
«В марте, в булочной Полуянова, мать покупала жаворонков с глазками из изюма, сдобная птаха с низкогудящего синего неба… Нынче таких не пекут, пришлось бы ведь восстанавливать все остальное, небо и взрослых, хлеб и детей».
В считанных словах — и жанровая зарисовка, и ощущение русской весны, и мысль о целостности национальной культуры, ее глубинных основ, где внешних примет недостаточно (жаворонков-то пекут и теперь, но это всего лишь хлебопродукт, сдобная булочка, если покупка не соединена с религиозным праздничным чувством).
В романах Гольдштейна меньше всего важны придуманные сюжеты, долго их проследить не удастся — обрываются, растекаются прихотливо; вымышленные персонажи, при всей своей портретной пластичности, психологических подробностях остаются все же полупрозрачными, переливчатыми; авторские суждения и оценки могут быть спорными. Всего важней в этой прозе сам язык, его вещество, на что бы ни перетекала независимо от сюжета мысль, взгляд автора. Язык этот заразителен, (я сейчас пишу и чувствую по себе). Цитировалось уже достаточно, хочется все же посмаковать еще, наугад.
Вот о судьбе знакомого по газетной редакции: «Месяц в больнице для нервных, подлечился, считалось, но, обвыкшись опять на свободе… вдруг умчался по желобу в жадный раструб, сгинул, всосанный медициной».
Иль о себе в школьные годы: «Я, раболепный потворщик, подстилка педагогических изнасилований, лишь бы отметка и успеваемость».
Но вот, если угодно, описание быстрой весны: «Набухшие почки, „пру и рву“, размножайтесь, размножились».
Такой эллиптизм в прозе для меня уже, пожалуй, чрезмерен. Боюсь, ни на один язык этого не перевести: словотворчество, культурные аллюзии, значение иных слов не понять без словаря — чья эрудиция поспеет за авторской? Популярности такая усложненность письма, что говорить, не приносит. Но Гольдштейн уже существует в печатном виде и постепенно будет до кого-то доходить. До многих ли? Подлинность явления редко подтверждается массовым успехом, во всяком случае, непосредственным, быстрым. Гольдштейн сам не раз об этом размышлял. Отдавая должное европейским знаменитостям, чей успех заслужен и неоспорим, он замечал: нередко их виртуозность и стилизаторский артистизм «маскируют гербарий, искусственные цветы, бабочек на булавках, подмену священного творчества изобретательным мастерством, когда домашнюю газовую горелку пытаются выдать за главенствующий над морем огонь маяка».
Подлинность, наполненность неподдельной жизнью каждой клеточки повествования — вот к чему стремится писатель. Завершая одно из эссе в книге «Аспекты духовного брака», Гольдштейн призывает на себя кару «за то, что написал эти вялые строки и не смог им придать необходимой энергии».
Пишущему остается перепроверять по этой мерке себя самого.
Марк Харитонов
Неистребимая тема русской мысли: Россия. Ни о чем другом эта мысль не размышляла с такой любовью, с таким отчаянием. Ни к какому иному предмету не припадала она с таким болезненным постоянством, словно иллюстрируя популярный философский тезис о вечном возвращении. В данном случае возвращался русский философ, а вернее будет сказать, что он и вовсе никуда не уходил, исповедуя строгое столпничество.
Но, как правило, Россия проявилась в русских текстах не одна: ее сопровождала Европа — мучительная и манящая, равно готовая отозваться на обращенный к ней доверчивый жест и грубо им пренебречь. Край святых чудес с его дорогими могилами, Европа служила объектом невротических переживаний со стороны как славянофильства, так и западничества. «Образ Запада, — пишет Е. Барабанов в недавней статье, — постоянно вызывает противоречивые чувства: страх, враждебность, ненависть (ксенофобия) и тут же — уважение, влюбленность, восхищение (эротически окрашенный невроз перенесения)… Уже самая эта невротическая амбивалентность образа Запада, закрепленная болезненными самоупреками, обнаруживает его мифологическую природу. Это — миф, вышедший из лона коллективного бессознательного, где царствуют инстинкты, вытесненные из сознания травмы, архетипы. Миф о „мужском“ авторитарном могуществе — запретно-страшном и запретно-сладком одновременно». Так Махатма Ганди в ранней своей юности, когда он отнюдь еще не был Махатмой, а, подобно молодому Аврелию Августину, искушаем был любострастными уклонениями плоти, каковую ублажал с неумеренным пылом, — Ганди, говорю я, из своего наследственного вегетарианства вожделел также и к европейской мясной пище, подававшейся в близлежащей британской харчевне. Тайно и дерзко этого мяса вкусив, Ганди прошел посвятительный обряд приобщения к западному миру, и впоследствии Мохандасу Карамчанду понадобились долгие годы внутренней борьбы, чтобы вернуться к родным началам национальной самобытности. Сходное отношение к манящей и гибельной Европе отличало эмансипирующуюся интеллигенцию ряда других стран, задержавшихся с буржуазной модернизацией, — назовем Японию эпохи революции Мэйдзи и Турцию периода Танзимата.
Читать дальше
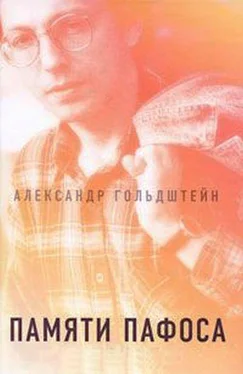


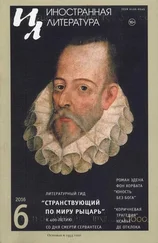

![Петр Киле - Опыты по эстетике классических эпох. [Статьи и эссе]](/books/185077/petr-kile-opyty-po-estetike-klassicheskih-epoh-st-thumb.webp)
![Пётр Киле - Эстетика Ренессанса [Статьи и эссе]](/books/185942/petr-kile-estetika-renessansa-stati-i-esse-thumb.webp)