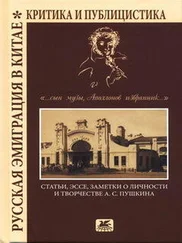— Вы уехали из Москвы признанным ученым, нестесненно себя проявлявшим на том самом поприще, которому и хотели посвятить свою жизнь, вы относились к избранному гуманитарному слою. Что послужило причиной перемены судьбы, если даже не слома ее, на сей раз добровольного?
— Когда мне задают столь обычные в нашем положении вопросы, почему, дескать, я уехал, жалею ли я, раскаиваюсь ли, то для меня они звучат так же, как если бы спросили, почему мне уже не двадцать, не ошибся ли я, не раскаиваюсь ли в этом. Уход молодости заставляет о чем-то сожалеть, но ведь не рассматривать же неумолимое течение времени как результат собственного поведения и как же в этом «раскаиваться»? Безотносительно к московскому моему статусу, к моим воззрениям, радостям, тревогам, симпатиям, я чувствовал, что приближается время отъезда, что это попросту предстоящий мне путь, к добру он или нет. До поры я затруднялся определить, когда это наступит, но будущее можно чувствовать и не датируя его, хотя и здесь встречаются исключения. При том и ощущение самого пути было стойким — ощущение того, что переживаемое на этом пути необходимо принимать как оно есть. Ну, к примеру, невыездной, не суждено увидеть Акрополь, галерею Уффици, порыться у букинистов на берегу Сены — но бывает и худший удел. Отъезд лежал на моем пути, и я чувствовал это в той мере, в какой мне дано было свой путь ощущать.
Мне вообще думается, что категория выбора, категория свободы воли, какой бы ограниченной ее ни представляли, — это всего лишь необходимый элемент того упорядочивания нашей этики, поведения, социальных связей, о котором я говорил. Если хотите, это своего рода полезный, для каких-то операций необходимый инструмент, важный и терапевтически. В этом категория свободы соответствует самой общей упорядочивающей функции религии, и не случайно она столь характерна для религиозной догматики. Но возможности выбора как произвольного предпочтения того или иного сценария — хотя бы в мельчайших деталях — я не ощущаю. Мысленный перебор сценариев представляется мне по определенным, возможно, не всегда ясным причинам нужной нам игрой. Это не сводится к детерминизму, к подчинению законам причинности, я имею в виду не детерминистскую заданность, но, скорее, принадлежность к высшему бытию. И в смысле этой нераздельной причастности ты уже, сейчас (изъясняясь, мы не можем не пользоваться временными категориями языка) слит с высшим началом, ты уже «свершен». А на этом уровне вопрос о выборе нерелевантен. И для меня в этом заключена несравненно более действенная терапия, чем в принципе выбора, — сколь ни полезен в ряде случаев этот принцип, если принять его, а затем поглядеть, что при этом творится в нашем мире, всегда и сейчас, здесь и повсюду, то есть от чего впасть в отчаяние.
Вероятно, изъясняясь не лучшим образом, но лучшего здесь, боюсь, не бывает, — высший религиозный опыт невыразим. У авторов упанишад читаем: «Оттуда отступают слова…» У Достоевского устами князя Мышкина сказано: «…вечно будут не про то говорить». Но потребность неодолима, и с незапамятных времен создается специфичный язык мистики просветления. Высшее начало пытаются выразить молчанием — что, кажется, было бы уместней всего, но в интервью этому не последуешь. Тут и чистое отрицание, и совпадение противоположных признаков. В дзенской традиции ты не можешь когда-либо достичь единения с Буддой просто потому, что ты сам всегда — Будда. У христианского мистика не только я не существую без Бога, но и Бог не в состоянии мгновения прожить без меня. Иным, нежели как слитым со мной, он быть уже не может.
Если же вернуться к конкретным действиям, необходимым для процедуры отъезда, то я совершал их автоматически: увидел, ощутил (называйте это как угодно), что время подходит, вот я и выполняю. Приоткрылась очередная часть моего пути, дотоле скрытая, оттого я и действую. В какой-то мере даже отстраненно, несмотря на всю беспрецедентность этих поступков, на определенный риск, на вполне развитый властями инстинкт самосохранения. Но иного пути нет.
— В книге «Спуститься, чтобы вознестись» вы, опираясь на различные, далеко друг от друга отстоящие факты культуры, разбирали соотношение порока и раскаяния, греха и святости. Если я вас правильно понял, вы доказываете, что грех, преступление с необходимостью предшествуют достижению высших состояний души?
— Фатальной необходимости именно преступления я здесь не вижу. Я пытался проанализировать специфику пути к совершенству, включающего в себя компоненты унижения и насилия, они и становятся порой необходимыми предварительными стадиями просветленности. Отмечалось уже, что христианство как бы состоит из двух частей: это — грешник и святой, и один из аспектов исследования — тесная связь с более общими функциями нашего поведения, с удовлетворением садомазохистских компонентов психики; сочетание насилия, господства с подчинением, униженностью. Но уравнивать грех и преступление нельзя. Это демонстрируют тексты, относящиеся к разным религиозным и культурным традициям. Я рассматривал поведение византийского юродивого и, параллельно, индуистского аскета, подчас наставника. В индуистских текстах мы видим образы униженного ученика и жестокого наставника, причем изображение сходных отношений находим и в буддизме, где безжалостным учителем способен выступать даже сам Будда — идеал сострадания. И получается так, что грех, падение, «спуск» характерны в качестве этапов, ведущих к просветлению, не согрешишь — не покаешься. Тут, конечно, не апология греха (одна читательница даже была шокирована), просто показано, что падение является единственным порой средством на пути героя к совершенству. Впрочем, русская классика иллюстрирует и крайние случаи. У Достоевского речь идет как раз о «преступлении». Для толстовского героя преодоление иных слабостей, допустим гордыни, оказывается недостаточным — требуется более серьезное нарушение табу. Таков отец Сергий — в черновом варианте он идет еще дальше, убивая соблазнительницу. Или император Александр Первый, если принять версию превращения его в старца Федора Кузьмича, — он чувствует прикосновенность свою к отцеубийству.
Читать дальше
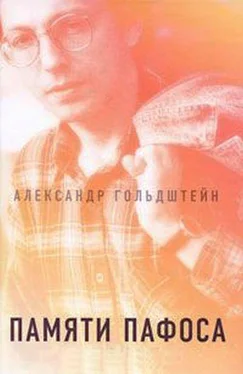




![Петр Киле - Опыты по эстетике классических эпох. [Статьи и эссе]](/books/185077/petr-kile-opyty-po-estetike-klassicheskih-epoh-st-thumb.webp)
![Пётр Киле - Эстетика Ренессанса [Статьи и эссе]](/books/185942/petr-kile-estetika-renessansa-stati-i-esse-thumb.webp)