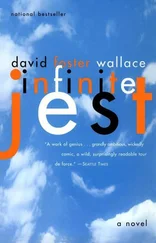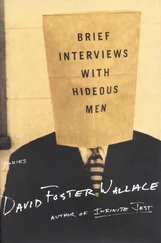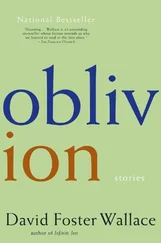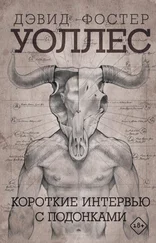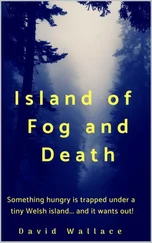Это все критики отметили, и отметили, как, несмотря на неуклюжую подачу, фильмы Линча приобретают благодаря фрейдистской теме гигантскую психологическую мощь; и все же никто до сих пор не заметил очевидного — что все эти очень заметные фрейдистские прогоны мощны, а не нелепы, только потому, что применяются экспрессионистски, что среди прочего значит, что они применяются в старой, до-постмодернистской манере, т. е. обнаженно, искренне, без абстракции или иронии постмодернизма. Меж-жалюзишный вуайеризм Джеффри Бомонта, может, и извращенная пародия на Первичную сцену [16], но ни он («студент колледжа»), никто другой в фильме не торопится сказать что-нибудь типа «Блин, это же извращенная пародия на Первичную сцену» или даже чем-то выдать осознание того, что происходящее — и символически, и психоаналитически — адски очевидно. Фильмы Линча, при всех их недвусмысленных архетипах и символах и межтекстовых отсылках и проч., имеют примечательное само-неосознание, что своего рода отличительная черта экспрессионизма. Никто в фильмах Линча не анализирует, не метакритикует, не герменевтизирует, ничего {44}, включая и самого Линча. Этот набор ограничений делает его фильмы фундаментально неироничными, и я признаю, что нехватка иронии у Линча — настоящая причина, почему киноэстеты — в наш век, когда ироническое самоосознание стало одним-единственным универсально узнаваемым признаком мудрости — думают о нем как о наивном или как о шуте. На деле Линч ни тот, ни другой — хотя он и не гений визуального кодирования или третичного символизма. Кто он? Странная гибридная помесь классического экспрессиониста и современного постмодерниста, художник, чьи «внутренние настроения и впечатления» (как и наши) — олья подрида нейрогенной предрасположенности и филогенетического мифа и психоаналитичекой схемы и поп-культурной иконографии — другими словами, Линч как бы Г. В. Пабст с зачесом Элвиса.
Такое экспрессионистское искусство, чтобы быть хорошим, должно избегать две западни. Первая — самосознание формы, когда все становится очень манерным и мило отсылается к себе {45}. Вторую западню, более сложную, можно назвать «критическая идиосинкразия» или «анти-эмпатический солипсизм», или как-то так: когда собственные восприятия и настроения и впечатления и навязчивые идеи художника слишком уж редкие и личные. Искусство, в конце концов, должно быть какой-то коммуникацией, и «личное выражение» кинематографически интересно только в том случае, если выражаемое созвучно и знакомо зрителю. Разница между переживанием искусства, которое удалось как коммуникация, и искусством, которое не удалось, примерно как разница между сексуальной близостью с человеком и подглядыванием, как другой мастурбирует. В категориях литературы богатый с коммуникативной точки зрения экспрессионизм воплощает Кафка, плохой и онанистский экспрессионизм — любой средний дипломный авангардный рассказ.
Именно вторая западня особенно бездонна и ужасна, и лучший фильм Линча, «Синий бархат», избегает ее так зрелищно, что первый просмотр, когда он только вышел, стал для меня откровением. Таким важным событием, что даже спустя десять лет я помню дату — 30 марта 1986, вечер среды — и что вся группа из нас, студентов MFA {46}, делала после того, как мы вышли из кинотеатра — а именно пошли в кофе-хаус и обсуждали, каким откровением оказался фильм. До этого времени наша магистерская программа пока была так себе: многие из нас хотели стать авангардными писателями, а наши профессора все были традиционными коммерческими реалистами Нью-Йоркской школы, и пока мы презирали учителей и негодовали из-за прохладной реакции на нашу «экспериментальную» писанину, мы также начали понимать, что большая часть нашего авангарда на самом деле солипсистская и претенциозная и самосознающая и онанистская и негодная, так что в этот год мы в основном ненавидели себя и всех вокруг и понятия не имели, как стать лучше в экспериментах, не поддавшись презренному коммерчески-реалистическому давлению, и т. д. Таков контекст, в котором «Синий бархат» произвел на нас впечатление. Очевидные «темы» фильма — черная сторона пригородной респектабельности, сочетание садизма и сексуальности и родительской власти и вуайеризма и глупого попа 50-х и темы взросления и т. д. — стали для нас не таким откровением, как сюрреализм и логика снов: вот они казались истинными, реальными. И в каждом кадре что-то немного, но чудесно не так — буквально умерший стоя Человек в Желтом, необъяснимая маска Фрэнка, страшноватый индустриальный гул у квартиры Дороти, странная скульптура вагина-дентаты {47}, висящая на голой стене над кроватью Джеффри, собака, пьющая из шланга парализованного отца — эти мазки не просто выглядели эксцентрично круто или экспериментально или эстетски, но они передавали какую-то истину. «Синий бархат» поймал какое-то кардинально важное ощущение того, как настоящее Америки воспринималось на наших нервных окончаниях, что нельзя проанализировать или свести к системе кодов или эстетических принципов или техник из творческих мастерских.
Читать дальше