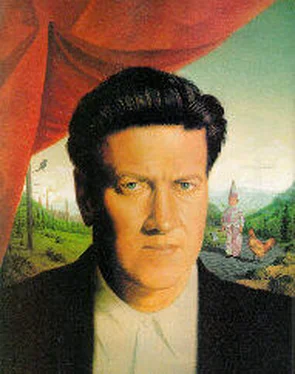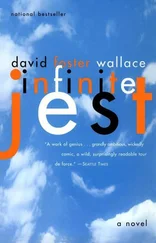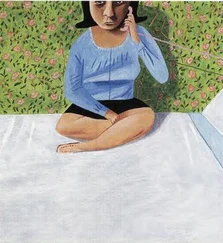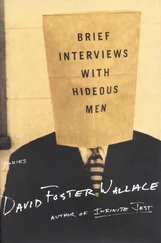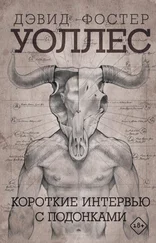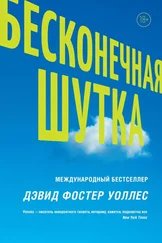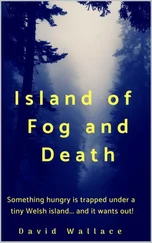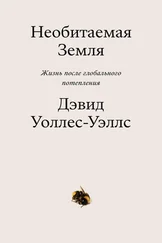Персонажи «Диких сердцем», с другой стороны, не «закругленные» или 3-D. (Видимо, так и было задумано). Сейлор и Луна — напыщенная пародия на фолкнеровскую страсть; Сантос и Мариэтта и Бобби Перу — мультяшные монстры, наборы кривых ухмылок и Кабуки-истерик. Фильм сам по себе невероятно жестокий (ужасные избиения, кровавые аварии, собаки тащат ампутированные конечности, голову Уильяма Дефо сносит из дробовика и она взлетает, как проколотый шарик), но насилие в итоге кажется не столько извращенным, сколько пустым, потоком стилизованных жестов. И пустым не потому, что насилие беспричинно или чрезмерно, но потому, что там нет ни единого живого существа, к которому мы могли бы проявить наши чувства ужаса или шока. «Дикие сердцем», хоть и выиграли в Каннах, собрали мало хороших отзывов в США, и неслучайно, ни что самые жестокие нападки были со стороны критиков-женщин, ни что особенно они невзлюбили холодность фильма и его эмоциональную нищету. См. хотя бы Кэтлин Мерфи из «Film Comment», которая увидела не более, чем «мусор из кавычек. Нас поощряют дрожать и хихикать от реальности в скобках, как вуайеристов: всем известные осколки поп-пультурной памяти, следование кинематографической моде — вот что заменяет игру человеческих эмоций». (На этом критика не исчерпывалась, и, честно признаться, в основном была по делу).
Дело в том, что неровное творчество Линча представляет собой кучу парадоксов. Его лучшие фильмы, как правило, самые извращенные, и, как правило, большую часть эмоциональной мощи они черпают из способности превращать нас в соучастников своей извращенности. И эта способность, в свою очередь, основана на вызове Линча исторической конвенции, которая часто отделяла авангард, «нелинейное» арт-кино, от коммерческого нарративного фильма. Нелинейное кино, т. е. без общепринятого сюжета, обычно отвергает и идею сильного индивидуального персонажа. Только в одном фильме Линча, «Человеке-слоне», был общепринятый линейный нарратив {13} 13 (Не считая «Дюны», какая, казалось, и хотела бы иметь такой, но, к зрительскому смущению, не имела).
. Но большинство его (лучших) фильмов уделяют персонажу много внимания. Т. е. в них есть живые люди. Возможно, что Джеффри, Меррик, Лора и Ко являются для Линча тем же, чем и для аудитории — узлами самоидентификации и двигателями эмоциональной боли. Степень (высокая), с которой Линч, кажется, идентифицирует себя с главными героями фильмов — еще одно, из-за чего его фильмы настолько пугающе «личные». А то, как он, кажется, не идентифицирует себя с аудиторией, делает его фильмы «холодными», хотя в отстранении тоже есть свои плюсы.
Занимательный факт в отношении (10):
В «Диких сердцем», с Лорой Дерн в роли Лулы и Николасом Кейджем в роли Сейлора, также есть Диана Лэдд в роли матери Лулы. Актриса Диана Лэдд и в реальности мать актрисы Лоры Дерн. Сами по себе «Дикие сердцем», несмотря на все яркие отсылки к «Волшебнику страны Оз», на самом деле ПМ-ремейк фильма Сидни Люмета «Из породы беглецов» 1950-го, где снимались Анна Маньяни и Марлон Брандо. То, что игра Кейджа сильно напоминает пародию Брандо на Элвиса или наоборот — не случайность, как и то, что и в «Диких сердцем», и в «Из породы беглецов» ключевым образом является огонь, как и то, что любимая куртка из змеиной кожи Сейлора — «символ моей веры в свободу и индивидуальный выбор» — в точности такая же куртка, какую носил Брандо в «Из породы беглецов». «Из породы беглецов» — киноверсия малоизвестной пьесы Теннеси Уильямса «Орфей спускается в ад», которая в 1960-м, после воскрешения благодаря киноадаптации Люмета, ставилась в Нью-Йорке вне Бродвея, и в ней играли Брюс Дерн и Диана Лэдд, родители Лоры Дерн, которые встретились и поженились, пока играли в этой пьесе.
Насколько Дэвид Линч мог бы ожидать от обычного зрителя «Диких сердцем» знания о каких-либо из этих текстуальных или органических связей: 0; насколько его, видимо, волнует, уловил их кто-нибудь или нет: тоже 0.
11. последняя часть (10) как переход к тому, чего именно Дэвид Линч хочет от вас
Кино — авторитарная среда. Оно делает вас уязвимым и затем доминирует. Часть магии похода в кино — покориться ему, позволить доминировать. Сидеть в темноте на зачарованной дистанции от экрана, смотреть вверх, видеть людей на экране, пока они не видят тебя, и эти люди на экране намного больше тебя, красивей тебя, интересней и т. д. Подавляющая сила кино — не новость. Но разные фильмы применяют эту силу по-разному. Арт-фильмы, по сути, идеологичны: они пытаются разными путями «пробудить зрителя» или сделать нас «сознательнее». (Эта подоплека легко вырождается в претенциозность и самодовольство и снисходительную болтовню, но сама по себе великодушная и добрая). Коммерческое кино, кажется, не особо заботится о наставлении или просвещении зрителей. Цель коммерческого кино — «развлекать», что обычно означает использование различных фантазий, которые позволяют кинозрителю притвориться, будто он кто-то другой, и что жизнь больше и понятней и интересней и привлекательней и, в целом, просто более развлекательная, чем на самом деле. Можно сказать, что коммерческий фильм хочет не пробудить людей, но скорее сделать их сон таким удобным, а грезы настолько приятными, что они будут передавать деньги лопатами, чтобы их испытать — и вот это соблазнение, этот обмен «фантазия-на-деньги» и есть первичный посыл коммерческого кино. Посыл арт-фильма обычно интеллектуальней или эстетичней, и обычно приходится поработать над трактовкой, чтобы его понять, так что когда платишь за арт-фильм, в этот момент вообще-то платишь за то, чтобы поработать (тогда как вся работа, что проделываешь касательно коммерческого кино — та, что позволила купить билет).
Читать дальше