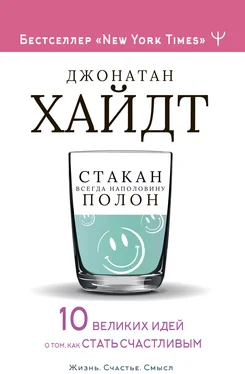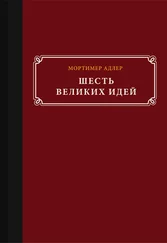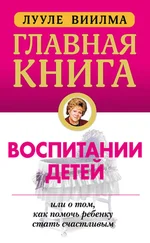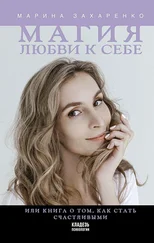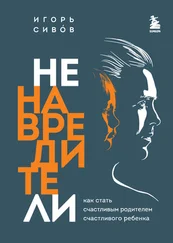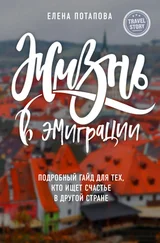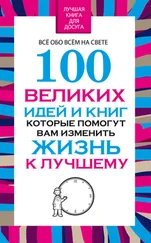Однако отвращение охраняет не только рот – факторов, его вызывающих, в ходе биологической и культурной эволюции становится все больше, и теперь оно стоит на страже тела в целом (о наших исследованиях отвращения см. Haidt, and McCauley, 2000). Отвращение играет роль не только в выборе пищи, но и в сексуальной жизни: направляет человека в сторону ограниченного класса культурно приемлемых сексуальных партнеров и сексуальных актов. Здесь отвращение опять же отключает желание и пробуждает стремление отделиться и очиститься духовно и телесно. Кроме того, именно отвращение вызывает у нас неприятное чувство сродни тошноте при виде кожных болезней, уродств, ампутаций, крайней тучности или худобы – словом, когда попирается культурный идеал внешней оболочки человеческого тела. Главное – внешность: рак легких или отсутствие почки не отвратительны, а опухоль на лице или отсутствие пальца – да.
Расширение полномочий от стража рта до стража тела осмысленно с чисто биологической точки зрения: мы, люди, всегда жили тесно, наши колонии были больше, чем у большинства других приматов, и к тому же мы обитали не на деревьях, а на земле, поэтому больше рисковали подхватить заразу, распространяющуюся через физический контакт – бактерии или паразитов. Отвращение заставляет быть разборчивыми в контактах. Но самое удивительное в отвращении – то, что оно задействуется при обосновании огромного множества норм, ритуалов и верований, которые культуры считают для себя определяющими (Haidt et al., 1997). Например, многие культуры проводят резкую грань между людьми и животными, утверждают, что люди в чем-то выше, лучше и богоподобнее остальных зверей. Человеческое тело постоянно называют храмом, где обитает божественность: «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои?.. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии» (Первое послание к коринфянам святого апостола Павла 6:19–20).
Однако культура, утверждающая, что люди не животные, а тело – храм, сталкивается с большими сложностями: наши тела делают все то же самое, что и тела животных – едят, испражняются, спариваются, истекают кровью и умирают. Так что все данные за то, что мы все-таки животные, поэтому культура, отрицающая в нас животное начало, должна сильно постараться, чтобы эти данные утаить. Биологические процессы обязаны идти как положено, и отвращение за этим бдительно следит. Представьте себе, что вы приехали в город, где все ходят нагишом, не моются, прилюдно занимаются сексом «по-собачьи» и едят сырое мясо, отрывая куски зубами прямо с туши. Ну, скажем, возможно, вы бы заплатили за билет на подобное шоу уродцев, но, как после любого шоу уродцев, вы бы покинули этот город подавленными. При виде этого «дикарства» вас охватило бы отвращение и возникло бы интуитивное чувство, что с этими людьми что-то не так. Отвращение – страж храма нашего тела. В этом воображаемом городе всех стражей истребили, а храмы захватили бродячие псы.
Представление о третьем измерении – божественности – ось которого направлена от животных, находящихся внизу, до бога (богов), находящихся вверху, а люди на ней где-то посередине, прекрасно уловил Коттон Мэзер, пуританский проповедник из Новой Англии, живший в XVIII веке, когда справлял малую нужду и увидел, что рядом мочится пес. Собственный акт мочеиспускания преисполнил Мэзера таким отвращением, что он записал в дневнике: «И все же я буду более благородным созданием, и в тот самый миг, когда мои естественные потребности вынудят меня снизойти до животного состояния, мой дух – в тот самый миг, как я сказал! – воспарит к небесам» (цит. по Thomas, 1983).
Если человеческое тело – это храм, где иногда становится грязно, то выражение «чистота сродни Божественности» (John Wesley, 1986, sermon 88, «On Dress») обретает наглядный смысл. Если вы не воспринимаете это третье измерение, непонятно, какое дело Богу до количества грязи у вас на коже или у вас в доме. Но если вы живете в трехмерном мире, отвращение уподобляется лестнице Иакова: оно стоит на земле, на наших биологических потребностях, но уходит (и ведет людей) ввысь, к небесам, то есть, по крайней мере, к чему-то, что ощущается как «высшее».
После аспирантуры я два года проработал в Чикагском университете у Ричарда Шведера, психолога-антрополога, светила в области психологии культуры. Большую часть своих исследований Шведер проводит в индийском городе Бхубанешваре, в штате Орисса на Бенгальском заливе. Бхубанешвар – древний город-храм: старые кварталы выросли вокруг гигантского, роскошно украшенного резьбой храма Лингараджа, выстроенного в VII веке и до сих пор остающегося крупным центром паломничества для индуистов. Исследования морали, которые Шредер проводил и в Бхубанешваре, и в других местах (Shweder et al., 1997), показывают, что когда люди задумываются о морали и нравственности, их моральные представления объединяются в три группы, которые он называет этикой автономии, этикой сообщества и этикой божественности. Когда люди думают и действуют на основании этики автономии, их цель – защитить человека от опасностей и предоставить ему максимум автономии, которой он может пользоваться в своих интересах. Цель мыслей и поступков в рамках этики сообщества – защитить самосознание и целостность групп, семей, компаний и стран, и здесь ценятся добродетели послушания, верности и мудрого руководства. Если же задействуется этика божественности, цель ее – уберечь от деградации божественное начало в каждом из нас, и она приветствует чистый, святой образ жизни, избавленный от моральных загрязнений вроде похоти, ненависти и алчности. Соотношение этих трех этик в разных культурах разное и примерно соответствует осям X, Y и Z на рисунке 9.1. В своей диссертации, посвященной нравственным суждениям в Бразилии и США (Haidt, Koller, and Dias, 1993), я делаю вывод, что образованные американцы из высшего слоя общества, рассуждая о морали, почти всегда опираются на этику автономии, а бразильцы и представители низших общественных классов в обеих культурах гораздо шире задействуют этику сообщества и божественности.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу