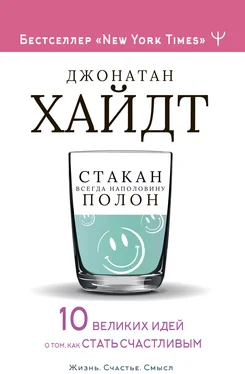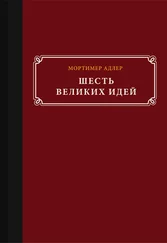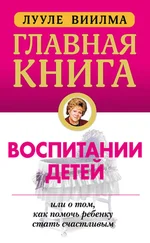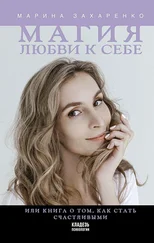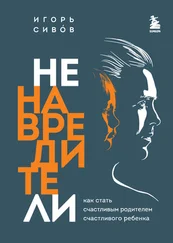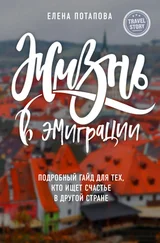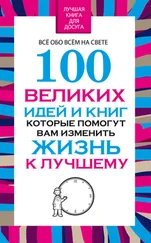Хантер приводит и вторую причину смерти характера – инклюзивность. Первые американские поселенцы создавали анклавы, население которых было однородно этнически, культурно и морально, однако в дальнейшем вся история Америки была историей растущего многообразия. Поэтому педагоги и воспитатели стремились выявить набор нравственных представлений, с которыми были бы согласны все, и этот набор постоянно сужался. Сужение дошло до логического конца в шестидесятые, когда появилось популярное движение «за прояснение ценностей», не проповедовавшее вообще никакой морали. Прояснение ценностей учило детей искать собственные ценности, а от учителей требовало воздерживаться от навязывания ценностей кому бы то ни было. Хотя цели инклюзивности весьма похвальны, у него наблюдались непредвиденные побочные эффекты – оно отрывало детей от традиций, истории и религии, от той самой почвы, где коренились прежние понятия о добродетели. Можно растить овощи на гидропонике, но все равно надо добавлять в воду питательные вещества. А когда мы предложили детям отрастить себе добродетели на гидропонике и руководствоваться исключительно внутренними ощущениями, это было все равно что потребовать, чтобы каждый из нас разработал свой собственный язык – бессмысленное занятие, не приводящее ни к чему, кроме одиночества, ведь человеку не с кем будет поговорить. (Тонкий анализ более либерального подхода к роли «культурных ресурсов» для формирования самосознания см. в Appiah, 2005, а также в Taylor, 1989.)
Я считаю, что анализ Хантера вполне корректен, но все же не убежден, что в целом урезанная современная мораль не принесла нам ничего, кроме вреда. В старом кино и телепрограммах, даже снятых в шестидесятые, меня часто тревожит одна черта: строгие рамки, налагаемые обществом на жизнь женщин и афроамериканцев. Да, инклюзивность обошлась нам недешево, зато мы приобрели более гуманное общество, где больше возможностей для расовых и сексуальных меньшинств, для женщин, инвалидов и так далее – то есть для большинства из нас. И даже если кому-то кажется, что цена была слишком высокой, обратной дороги нет – мы не можем вернуться ни в общество до потребления, ни в этнически однородные анклавы. Остается лишь искать способы борьбы с аномией, которые не исключали бы из жизни общества огромные классы людей.
Я не социолог и не специалист по образовательной политике, поэтому не буду пытаться обрисовать радикально новый подход к нравственному воспитанию. Лучше расскажу об одной находке, которую я сделал, когда сам исследовал многообразие в обществе. Само слово «многообразие» («diversity») в этом значении заняло нынешнюю позицию в американском лексиконе лишь в 1978 году после постановления Верховного суда по делу «Риджентс против Бакке», согласно которому применение расовых предпочтений для достижения расовых квот в университетах противоречит конституции, но можно опираться на расовые предпочтения для достижения разнообразия в составе студентов. С тех пор многообразие повсеместно приветствуется, о нем пишут на наклейках на бамперы, проводят дни многообразия в кампусах, напирают на него в рекламе. Для многих либералов многообразие стало безусловным благом – как справедливость, свобода и счастье: чем больше многообразия, тем лучше.
Однако исследования морали и нравственности заставили меня усомниться в этом. Если учесть, как легко разделять людей на враждующие группировки на основании банальных различий (Tajfel, 1982), подумал я, интересно, не приводит ли пропаганда многообразия к пропаганде разделения, тогда как пропаганда общности могла бы помочь людям образовывать сплоченные группы и общины. Я быстро понял, что многообразие бывает двух видов: демографическое и моральное. Демографическое многообразие касается социально-демографических категорий – расы, этнической принадлежности, пола, сексуальной ориентации, возраста и инвалидности или ее отсутствия. Призывы к демографическому разнообразию – это в большой степени призывы к справедливости, к включению в жизнь общества исключенных групп. А моральное многообразие, напротив, – это именно то, что Дюркгейм назвал аномией: отсутствие согласия по вопросам нравственных норм и ценностей. Стоит провести это различие, и станет видно, что моральное многообразие в принципе никому не нужно – никто в здравом уме и твердой памяти такого не захочет. Если, например, вы по вопросу об абортах придерживаетесь мнения, что это личное дело женщины, едва ли вы предпочтете, чтобы в обществе был широкий диапазон убеждений на этот счет, а не какое-то одно господствующее. И едва ли вам захочется, чтобы все были согласны с вами, но законы вашего государства гласили противоположное. Если вам нравится, что по какому-то вопросу налицо многообразие мнений, значит, для вас этот вопрос не имеет отношения к нравственности – речь идет просто о вкусах.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу