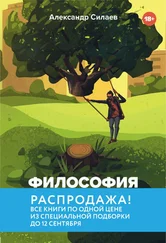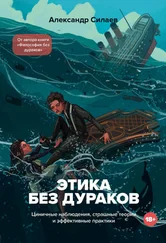Чем больше в данной популяции патриотов, тем хуже ее шансы. Хочешь, чтобы твоя большая группа была успешной – выбрось это из головы.
Достаточно оставить «я выбрал состоять в этой группе» (в данном случае «у меня есть то или иное гражданство») и «я хороший человек». Хороший не только в том смысле, что не делаю ничего плохого (иначе лучше всех на свете были бы аквариумные рыбки), но хорошо что-то делаю . При этом, конечно, я лоялен внутренним правилам группы. Правила не сложные: не убий, не укради, не прелюбодействуй (хотя последнее местами декриминализовано) и т. д. Короче, чти Уголовный кодекс, служебные инструкции и данные обещания. Если человек солдат – он будет воевать за группу, это входит в «инструкции» и «обещания». Если обещаний не давал – не обязан. Но если хочешь, можешь пойти добровольцем, если речь идет о выживании группы.
Полагаем, такие большие группы обладают конкурентными преимуществом относительно тех, что скреплены традиционным патриотизмом. Баланс смещается в ту сторону, тенденция (изначально робкая) заметна где-то со второй половины XX века.
Человек играет за свою большую группу лишь потому, что состоит в ней, оставаясь, по сути, космополитом. Пока в большинстве стран, наверное, доля патриотов превышает долю таких космополитов . Но дело в том, что все космополиты – в некоем роде одна партия на земле. У них примерно совпадает представление о справедливости и оптимальном решении чего угодно. Если две страны конфликтуют, то по обе стороны фронта (даже если дело дошло до фронта) у таких людей схожее понимание, кто прав, кто виноват и как лучше решить конфликт, не воюя до последней живой души. Между тем сколько патриотов – столько версий справедливости. Если смотреть так, то…
Космополиты, оставаясь в меньшинстве в своей стране, как единая партия самая сильная на планете, и она только прибывает.
Двери ее открыты для всех, хотя и в обе стороны: если внезапно захотелось подсудить своим, всегда можно выйти (или тебя проводят до двери). Возможно, космополит – не лучшее слово. Можете назвать «союз людей доброй воли».
Наконец, рассмотрим самое понятие нации. Патриотизм ведь в каком случае прежде всего за нацию? Если прежде всего за семью и клан – это феодализм или мафиозность (определение зависит от страны и эпохи).
Нация – это конвенция. Как договорились, то и нация.
Многие почему-то не поверят, но когда-то их не было. Была раса, родственные узы, вероисповедание, подданство. Раса написана на лице, фамилия на гербе, вера и сюзерен – назовите сами, хотя обычно тоже понятно. А вот в современном смысле нацию как единство территории, гражданства, языка, культуры и патриотических чувств придумали в Европе в Новое время. Хотя точнее сказать – придумалось само.
Обнаружилось, что у общности, собранной таким образом, есть конкурентные преимущества. Например, способность собрать большую регулярную армию, вооружить ее, обучить и мотивировать. Воевать с XVII по XX век лучше всего было нациями. Но так же лучше делать многое из того, что делалось на данном этапе: переселяться в города, развивать промышленность, получать всеобщее среднее образование. Нации лучше поддавались лечению, обучению и строевой подготовке, чем племена и традиционные империи. Нации побеждали. Все больше людей обнаруживали, что они не просто крестьяне и христиане, а люди, принадлежащие к некоей нации.
Пика этот процесс достиг к моменту двух мировых войн, собственно, иначе их было бы и не провести. Мало иметь соответствующую технику, нужно еще обладать сознанием, соответствующим войнам. Что общего было в первой половине XX века у немцев, французов, англичан, русских, американцев? При всем различии их тогдашних идеологий? И что отличает их всех от человека XIV или XXI веков? Прежде всего, само понимание, что это нормально: миллионы людей уходят на фронт, и каждый готов убивать и умирать. Это больно, трагично, но что делать, воюют именно так.
Но это не само собой разумеется . От рождения человеческая голова не устроена так, чтобы считать это нормой. Для того чтобы было понятно, что это лишь образ мыслей и не более, проведите мысленный эксперимент. Предложите это сегодняшним европейцам. «Делать нечего, вот тебе автомат, возможно тебя скоро убьют». – «А почему, зачем?» – «Ты чего? Священный долг, приграничные территории, враг у ворот». – «Пошло вон, правительство. Отдайте им территории. Или не отдавайте. Решите вопрос без меня, как хотите. У нас налоги 50 %, полагаем, это включено в счет». Если правительство будет настаивать, оно получит скорее революцию, чем войну. В любом случае «поражение в войне» – более низкая цена, чем «я умру», и долгая война невозможна, особенно если враг полагает так же. Сегодня мобилизовать людей, как их мобилизовывали в 1914 или 1939 годах, удалось бы, вероятно, в Северной Корее и еще нескольких похожих странах. Но доминируют в мире отнюдь не самые мобилизуемые страны.
Читать дальше
![Александр Силаев Философия без дураков [Как логические ошибки становятся мировоззрением и как с этим бороться?] [litres] обложка книги](/books/393881/aleksandr-silaev-filosofiya-bez-durakov-kak-logiche-cover.webp)





![Мария Гудаваж - Доктор Пес [Как наши лучшие друзья становятся нашими врачами] [litres]](/books/388896/mariya-gudavazh-doktor-pes-kak-nashi-luchshie-druzya-s-thumb.webp)