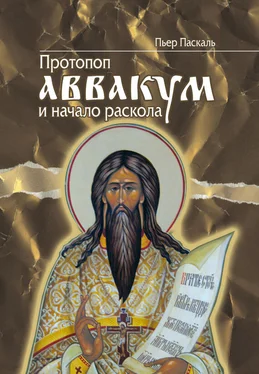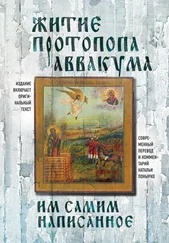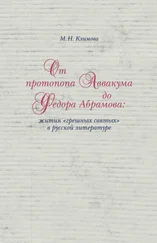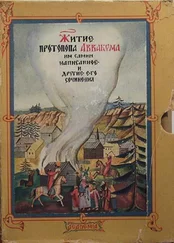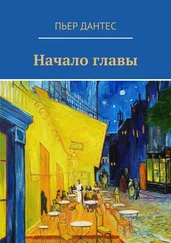1 ...6 7 8 10 11 12 ...338
Предисловие ко второму изданию [37]
Предлагаемый труд – точное воспроизведение книги, изданной в 1938 году стараниями Центра изучения России «Истина» и Института славистики Парижского университета.
Он был подготовлен автором главным образом на основании сочинений протопопа Аввакума, увидевших свет в академической издании 1927 года, оригинальных сочинений, собранных Субботиным в «Материалах…», и Барсковым в «Памятниках первых лет старообрядчества», уже опубликованных документов или обнаруженных в архивах.
Иными словами, труд не переделывался, даже спустя двадцать пять лет. Он смог только обогатиться, благодаря работам, опубликованным после 1938 года, об Аввакуме или начале раскола, или новым текстам, оказавшимся в распоряжении автора.
Аввакум сегодня расценивается в СССР как классик, величайший писатель древнерусской литературы. Под этим определением он стал объектом многочисленных исследований в журнале, издающемся с 1932 года – «Труды отдела древнерусской литературы» Института русской литературы Академии наук, а также в некоторых других журналах. Затрагивая такие темы, как стиль и словоупотребление в «Житии», литературные принципы автобиографии в «Житии» протопопа Аввакума и Епифания, «Житие» как образец демократической литературы, древнерусская литература в творчестве Аввакума, творчество Аввакума и общественные движения конца XVII века, идея равенства у Аввакума, социальные условия первых раскольников, Аввакум и Епифаний, эти исследования не могли добавить что-либо новое к настоящему труду. Их стоило лишь упомянуть.
Второй том академического издания, который должен был содержать неполные или сомнительные тексты Аввакума, до сих пор не издан. Напротив, в Москве в июне 1960 года под редакцией Н. К. Гудзия издали книгу в 480 страниц, тиражом 30 000 экземпляров, озаглавленную «Житие протопопа Аввакума, написанное им самим, и другие его сочинения». Заслуга ее, в частности, в том, что в книгу вошло полдюжины текстов, до сей поры неизвестных.
Большая часть этих текстов была выявлена и подготовлена к печати сначала Вл. Малышевым, который с 1934 года посвятил себя поискам древних рукописей и в особенности – тех, где содержатся сведения об Аввакуме. Благодаря ему количество рукописей, в которых упоминается «Житие», выросло до сорока четырех; в сборнике конца XVIII или начала XIX века он выявил позднюю переработку «Жития», в которой в сокращении используются три подлинных списка, содержатся также сведения, предоставленные из других сочинений Аввакума, и которая содержит новые данные, происходящие, согласно Малышеву, из четвертого подлинного списка. Эта «рукопись Прянишникова» была издана в приложении к изданию Гудзия 1960 года, стр. 305–343.
Благодаря В. И. Малышеву в научный оборот была введена челобитная протопопа Аввакума царю Алексею Михайловичу, датируемая январем 1665 года, два письма, написанные в мае 1665 года – своей семье и Авраамию [38](1951, 3, стр. 261–263), одно письмо к некой Ксении Артемьевне Болотовой из Нижнего Новгорода, прежде неизвестное, и еще одно – царевне Ирине Михайловне, оба отправленные из Пустозерска, дату их трудно определить [39].
В дополнении учтены новые тексты, опубликованные в издании Гудзия 1960 года или других.
Дело было в Москве около 1928 г. Я выполнял функции «научного работника» в институте, достоинства которого для меня имели двоякое значение: во-первых, там имелась богатая библиотека и, во-вторых, во главе института стоял человек с широкими взглядами. После того, как я на протяжении двух или трех часов занимался приведением в порядок документов, связанных с Бабефом [40], я спускался в подвал и там стал изучать литературные богатства, имевшие, по моему мнению, гораздо большее значение, чем те литературные материалы, которые были открыты для общего пользования.
Однажды я натолкнулся на брошюру, опубликованную в 1916 г. Академией наук под заглавием: «Житие протопопа Аввакума, написанное им самим». Я начал читать эту книгу, и с самого начала она меня захватила. После почти интернационального языка современных журналов и книг я столкнулся с чистым и сочным русским языком, языком, на котором говорил весь русский народ до Петра Великого и на котором еще до сих пор говорят крестьяне. Вместо сухой социологии, которая заменяла живую историю человечества сухими схемами, передо мной живо вырисовывался московский XVII век. Каким он представлялся мне разнообразным, то удивительно далеким, то столь близким двадцатому веку! И передо мной вырисовывалась еще душа исключительного человека с глубоким чувством совести, несокрушимая вплоть до самой смерти. В нем, в этом гениальном человеке, обитала еще удивительная духовная свобода, питаемая глубокой верой в Провидение и постоянным погружением в сверхчувственный мир.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу