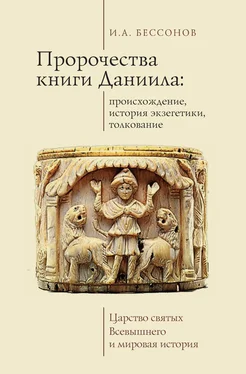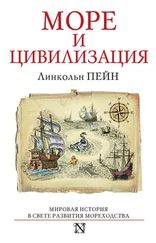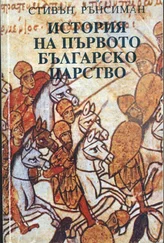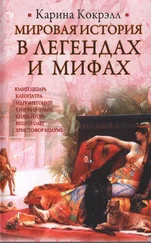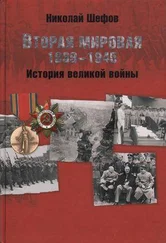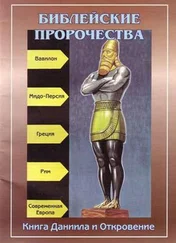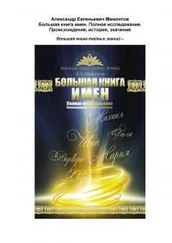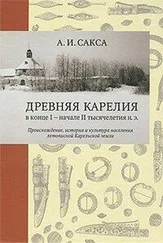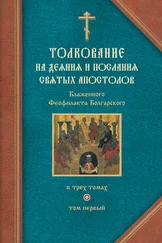Активное использование типологии в Новом Завете имело своим результатом ее превращение в один из принципиальных экзегетических методов христианской Церкви. Типология была особенно характерна для Антиохийской богословской школы, где она получила названия «теории», «созерцания», которую антиохийцы противопоставляли отрицаемому ими аллегорическому методу Александрийской богословской школы. Особенностью Антиохийской школы стало принципиальное внимание к буквальному смыслу Священного Писания и его интерпретации в оригинальном историческом контексте. Особенности подхода антиохийских экзегетов ярко излагаются Диодором Тарсийским в его предисловии к толкованию 118 псалма.
В нем он приводит несколько главных принципов, характерных для антиохийской школы. Во-первых, это принцип «духовного толкования», которое, в отличие от языческой или александрийской аллегории, должно основываться на буквальном смысле текста, не противоречить ему и не отрицать историчности событий и лиц, описанных в Писании. Во-вторых, применение собственно аллегории, именуемой им «образной речью», Диодор ограничивает теми пассажами Священного Писания, где этот прием непосредственно использовался автором.
Определенное обобщение и систематизация классических экзегетических методов принадлежат Иоанну Кассиану Римлянину (ок. 360 – ок. 435). Им была разработана концепция четырех смыслов Священного Писания, ставшая классической для последующей католической экзегетики. Он выделяет в Писании буквальный, аллегорический, тропологический (нравственный) и анагогический (мистический или эсхатологический) смыслы. Классической иллюстрацией подобного толкования является разбор символики Иерусалима, который мы находим в 18-ом Собеседовании Иоанна Кассиана. В буквальном смысле это город в Палестине, в аллегорическом – Церковь, в тропологическом – душа человека, в анагогическом – небесный Иерусалим.
Мы не будем подробно рассматривать историю развития средневековой экзегезы, остановившись лишь на идеях наиболее заметных авторов. Первостепенную роль в данном случае, безусловно, имеют работы Фомы Аквинского (1225–1274). Принципиальной чертой в экзегетике Фомы Аквинского стало подчеркивание им центрального значения буквального смысла Священного Писания. Все остальные смыслы Писания строятся на основе буквального смысла – буквальный смысл является смыслом слов, в то время как остальные смыслы Писания основаны на том, что обозначаемые ими вещи могут быть образами других вещей. Таким образом, по мысли Фомы Аквинского, в библейской экзегетике сами лица, предметы и события получают самостоятельные значения, которые и образуют духовный смысл (STI.1.10). Экзегеза Фомы Аквинского получает принципиально типологический характер; по его мысли, ветхозаветные прообразы связаны с новозаветными образами, в то время как последние предвосхищают собой духовные образы. Тем не менее хочется еще раз подчеркнуть то принципиальное значение, которое Фома Аквинский придавал буквальному смыслу. По его мнению, все истины, принципиальные для веры, всегда передаются в Писании с помощью буквального смысла, в силу чего только он должен служить основанием для богословского суждения.
В Новое время концепция «духовного смысла» Священного Писания начинает постепенно терять популярность. Уже Мартин Лютер отказался от аллегорического толкования Писания, полагая, что оно уместно только в тех случаях, что оно подразумевалось самим автором. Кальвин еще более негативно относился к традиционным экзегетическим подходам, полагая, что толкование Библии должно, в первую очередь, основываться на понимании ее буквального смысла 93 93 David Tracy, Robert McQueen Grant. Op. cit. P. 92–99.
. С развитием историко-критического метода представление о духовном смысле все более вытесняется даже из церковной экзегезы, зачастую ограничивающейся канонизированными в Новом Завете и святоотеческой традиции примерами духовного толкования библейских текстов. Итак, следует ли считать «духовный смысл» Священного Писания реликтом давно ушедших эпох, ставшим неактуальным для современной богословской мысли? Хочется думать, что далеко не во всех случаях ответ на этот вопрос должен быть утвердительным. Можно привести лишь некоторые наиболее яркие примеры актуальности традиционных экзегетических методов в современной богословской мысли.
В первую очередь, это относится к типологическому методу толкования Священного Писания. В XX веке он снова оказался востребован как метод, позволяющий осмыслять современные события в свете их библейских прообразов. В первую очередь здесь следует упомянуть латиноамериканскую теологию освобождения, в центре которой оказалась тема Исхода из Египта как образа социального освобождения угнетенных социальных слоев и колониальных народов. Определенную популярность типологические интерпретации современных событий получили и в еврейской культуре: нацисты стали мыслиться как воплощение Амалека или Амана, смертельных экзистенциальных врагов еврейского народа. Таким образом, типологическое осмысление библейских образов продолжает оставаться актуальным и продуктивным способом толкования Священного Писания. Примечательно, что в ряде случаев можно говорить о соединении исторической типологии с аллегорией, когда библейские лица и события становятся символами целых коллективов и происходящих с ними событий. Указанный подход имеет значительную близость как к знаменитой аллегории апостола Павла, приведенной в Послании к Галатам, так и к аналогичным аллегориям, характерным для раввинистической литературы 94 94 Cohen Gerson D. Esau as Symbol in Early Medieval Thought // Jewish Medieval and Reinessance Studies. Cambridge, 1967; Yuval Israel. Two Nations in Your Womb: Perceptions ofJews and Christians in Late Antiquity and the Middle Ages. Berkeley-Los Angeles-London, 2000. P. 1–30.
.
Читать дальше