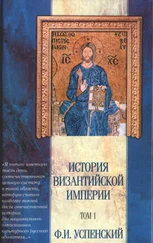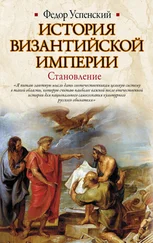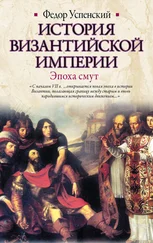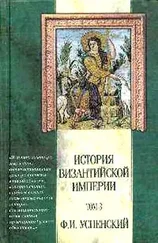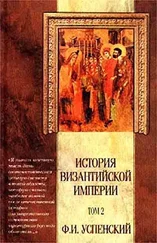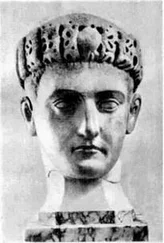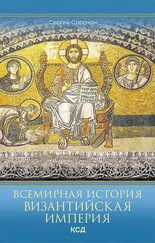Население города представляло смесь народов разного происхождения. Множество торговых людей из разных стран жило в Константинополе с целью взаимных торговых сделок. Главную массу составляли торговые люди итальянского происхождения: венецианцы, генуэзцы и пизанцы. Немало было людей восточного происхождения: армян, арабов, турок. Правительство царей Комнинов предоставило иностранцам отдельные кварталы для жительства и склады для товаров и простирало терпимость до того, что разрешало устройство инославных церквей и мечетей. Мелкие промышленники, ремесленники, продавцы разных товаров и чернорабочие на пристанях, эта «грубая, низкая и пьяная толпа», к которой так не расположен наш писатель, нередко своим участием решала многие политические затруднения и ставила византийское правительство в необходимость считаться с ее требованиями. Население столицы отличалось крайней подвижностью. Оно пользовалось малейшим поводом к волнениям и сборищам, охотно следовало за ораторами и вожаками, слепо подчиняясь им. Когда разливалась волна народного движения, улицы и площади наполнялись любопытствующими, которые скоро примыкали к общему движению. Эти ремесленники, мясники, лавочники, продавцы овощей делались страшной силой, когда становились орудием смелых и влиятельных вожаков. Но наш историк рисует население столицы очень мрачными красками; он смотрит на него сквозь призму эллинских преданий классической эпохи. Это по сравнению с афинским демосом грубая уличная толпа, для которой «непонятны внушения лучших людей и которая не знает сладости свободы. И во всяком другом городе народная толпа безрассудна и непреодолима, царьградская же уличная чернь особенно склонна к волнениям, отличается необузданностью и кривым нравом как потому, что состоит из разноплеменных народов, так и потому, что разнообразием занятий приучается к перемене убеждений. Иногда по одному слуху народ начинает волноваться и пламя бунта разливается как пожар, толпа идет слепо на мечи, не останавливаясь перед утесом и глухим валом... Итак, по справедливости заслуживает константинопольский народ порицания за непостоянство, слабость и изменчивость. Неуважение к властям — прирожденное его качество; кого сегодня законно выбирают во властители, того скоро порицают как злодея» 230.
Во время латинской осады константинопольский гарнизон должен был иметь значительную численность, но, по-видимому, в составе его было много иностранного элемента: наемные итальянцы и северные дружины варваров, вооруженных секирами (варяги). Между туземным населением, состоявшим из греческих патриотов, и иноземцами, в особенности из латинян, неминуемы были столкновения. Легко понять, что греки подозревали латинян в сношениях с крестоносцами и преследовали их убийствами и разграблением их квартала. Во многих местах произведения Никиты Акомината ясно видны указания на социальные причины, породившие полный разрыв между состоятельными классами и простым народом. В то время как состоятельные люди лишились всего имущества в пользу завоевателей, мелкие ремесленники обогащались, приобретая за ничтожную цену награбленные латинянами и поступившие в продажу сокровища. Несчастия, сопутствовавшие завоеванию города латинянами, обратились, как оказывается, ко благу одной части населения. «Слава Богу, — говорили бедняки, — мы стали богаты» 231.
Таким образом, и провинциальная администрация, и взаимные отношения между сословиями и классами столичного населения одинаково подготовили империю к тому краху, который последовал в 1204 г. Везде замечаем мы отсутствие патриотизма, недостаток живых и сильных характеров, которые были бы в состоянии оценить происходившие события и предотвратить надвигавшиеся бедствия. Не видно ни самопожертвования, ни творчества в руководящих кругах оскудевшего византинизма.
В наиболее важные моменты исторической жизни Византийская империя находила опору в духовенстве, именно в монашеском сословии. На этот раз ни в среде высшего константинопольского духовенства, ни в кругу настоятелей монастырей не выдвинулось ни одной силы, которая могла бы примирить враждовавшие между собой элементы и дать делам благоприятное направление. Хотя слепой Исаак Ангел, вновь назначенный на престол в 1203 г., искал себе поддержки в духовенстве, но историк относится весьма неодобрительно к доверенным лицам Исаака:
«Он окружил себя недостойными людьми, длиннобородыми монахами, которые, поглощая самую свежую и жирную рыбу за его столом и попивая цельное вино, сулили ему продолжительное царствование и прозрение... Монах, — говорит писатель, — заискивающий расположения светской власти, — тот же астролог и придворный льстец: тот и другой имеют в виду лишь свои выгоды и не радеют об общем благе».
Читать дальше