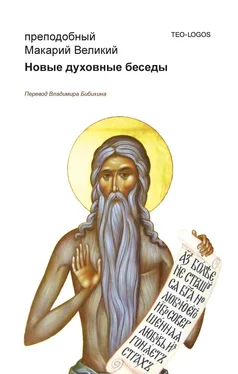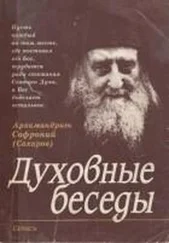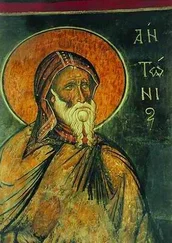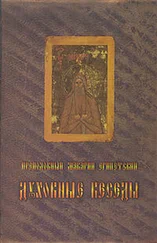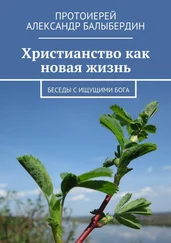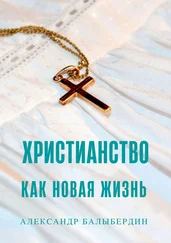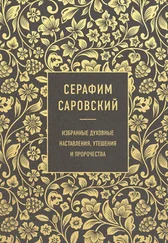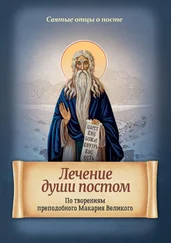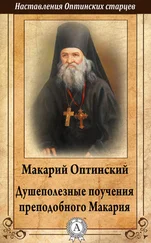Кроме того, не всегда Макариевы беседы носят это имя; иногда их автором назван Ефим Сириянин, в арабских переводах – Симеон. На сирийское, а не африканское, происхождение намекает и загадочное, до сих пор не объясненное сходство трактата «О христианском установлении» св. Григория, епископа Нисского, брата славного законодателя монастырской жизни св. Василия Великого, с «Большим посланием» Макария. Что на самом деле могло произойти? Возможно, в бурную эпоху догматических споров соборному осуждению незаслуженно подвергся человек выдающегося таланта и благодатной силы, по своим личным привязанностям и жизненным обстоятельствам, не по убеждениям и писаниям, оказавшийся близким к тем, кто был осужден за еретичество. Им был, по предположению Германа Дёрриса, немецкого исследователя, больше полувека занимавшегося этим вопросом, Симеон из Месопотамии, упоминаемый ранним церковным историком Феодоритом («Церковная история», 4, 11, 2) в числе пяти вождей мессалиан (евхитов, или «энтузиастов»), осужденных на Эфесском соборе 431 г. Но с сочинениями великого проповедника, имя которого по недоразумению стало неблагонадежным, Церковь никак не могла расстаться, и вот для их спасения они были приписаны египетскому отшельнику, далекому от всяких обвинений. О том, как всё это произошло, теперь можно только гадать. На различные предположения наводит, помимо имени «Симеон» в арабских переводах Макария, еще и то, что первое из семи его «Слов», в некоторых списках непосредственно примыкающих к «Пятидесяти духовным беседам»
[6] Они еще не переведены на русский язык, хотя опубликованы уже давно, см.: Marriott G.L. Macarii anecdota. Seven unpublished homilies of Macarius. Cambridge, 1918.
, имеет надписание: «Второе послание Макария к авве Симеону, подвижнику из сирийской Месопотамии». И чистая ли случайность то, что «Главы» из сочинений св. Макария вошли в обиход византийского монашества, исихастов, тоже под эгидой «Симеона» – Симеона Метафраста?
До чего бы ни дозналась наука, предание, очень давно (уже с VI в., о чём свидетельствует надписание одного хранящегося в Британском музее сирийского перевода) связавшее сочинения, о которых идет речь, с именем святого Макария Египетского, имеет более громкое право голоса. Никто не мешает нам и впредь называть их так, как они называются в большинстве дошедших до нас списков, – творениями св. Макария. Мы должны только, обогащенные новым знанием, помнить теперь об условности его авторства. И не будет никакой ошибки, если, особенно в научном контексте, мы будем пользоваться для обозначения автора и сочетанием «Макарий/Симеон» («Макарий-Симеон»), ведь проблема авторства «макариевых сочинений» уже не является спорной гипотезой и признана всеми, в том числе и православными писателями [7] См., например: Архиепископ Василий (Кривошеин). Преподобный Симеон Новый Богослов (949-1022). Париж, 1980, с. 40: «По нашему мнению, Духовные Беседы и другие творения, приписываемые преподобному Макарию Египетскому, но написанные, вероятно, в Сирии в конце IV – начале V вв., представляют сплошной поток древней монашеской мистической духовности…» Архиепископ Василий в этой книге напоминает о том, что и Симеона Нового Богослова из-за необычайной смелости его духовных дерзновений могла постичь судьба, не миновавшая, возможно, Симеона из Месопотамии: «Это чудо Божие, за которое мы должны Его всегда благодарить, что преподобный Симеон [Новый Богослов] никогда не был осужден за ересь своими современниками» (там же, с. 60).
.
Что касается «мессалианства» макариевых сочинений, то его всего лучше опровергают слова упоминавшегося выше Г. Дёрриса, который в свое время считался сторонником такого мнения [8] См. его книгу: Dorries Н. Symeon von Mesopotamien. Die Uberlieferung der messalianischen «Makarios»-Schriften. Leipzig, 1941.
, но после десятилетий работы над текстами и их богословским осмыслением пришел к выводу что Макария/Симеона нельзя причислять к еретикам-мессалианам. «Разве, – пишет Дёррис, – говорят что-либо о принадлежности Симеона к мессалианам сведения о том, что одним поколением спустя после него мессалиане пользовались руководством, составленным из его сочинений?.. Это еще вовсе не делает Симеона их единомышленником, он был просто высоко ценимым ими авторитетом. Вот если бы он сам составил для них руководство, только тогда его принадлежность к мессалианам была бы доказана… Судьбу книги нельзя делать ключом к ее истолкованию. Мейстера Экхарта нельзя выставлять одним из тех «свободных умов», которые на него ссылались. Кирилл Александрийский еще не стал сам монофизитом оттого, что эти последние обращались к нему и приспособили для себя его сочинения… А кроме того, если главной чертой мессалиан, по Феодориту, был энтузиазм, то Симеон был не его адвокатом, а его противником: он осуждает энтузиазм и отвергает притязания «совершенных» на безгрешность [9] Dorries Н. Die Theologie des Macarios/Symeon. Gottingen: Vandenhoeckund Ruprecht, 1978, S. 12–13.
. В большом исследовании Г. Дёррис систематизирует богословие Макария-Симеона. Понимание крылатой мысли вдохновенного духовного наставника давно должно было бы сделаться темой и отечественных богословских исследований.
Читать дальше