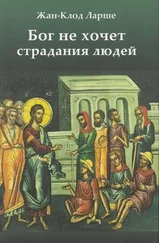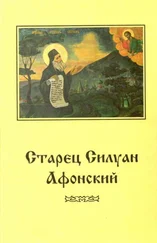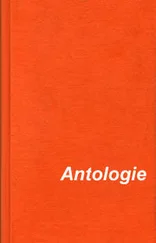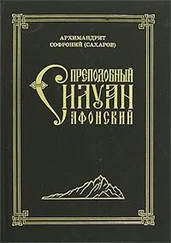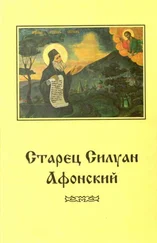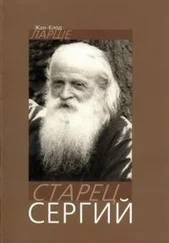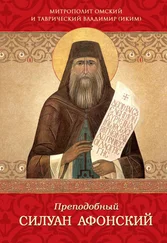В четверг 15 сентября 1938 года состояние старца резко ухудшилось, и его перевезли в монастырскую больницу. В понедельник 19 сентября его соборовали. К концу недели положение стало критическим. После того как иеромонах Сергий прочитал у его одра Умилительный канон Божией Матери на исход души, в субботу 24 сентября между часом и двумя ночи старец мирно отошел ко Господу.
К своей внешности старец относился с полным безразличием, одет был скромно. Он был высокого роста, крепкий и сильный, со спокойным, кротким и доброжелательным выражением лица. Держался просто, ко всем людям относился с нежностью и любовью, исполненной милосердия и участия, особенно чутким был ко всякой боли и страданию. Любовь его распространялось и на все творения Божии, на животных и на растения.
С почтением и уважением он относился к каждому человеку, невзирая на его социальное происхождение или образ жизни, никогда никого не осуждал. Каждого он старался принять и понять, нащупать его лучшую сторону, остерегался укорить кого бы то ни было и тем более осудить. В его словах никогда не было лукавства или насмешки, ни к кому не возникало у него чувства неприязни. Любовь и смирение не позволяли ему казаться лучше других – напротив, другим он всегда отдавал предпочтение перед собою. В разговорах держался кротко, нередко предпочитая молчание слову. Обладая великим душевным благородством и чрезвычайной духовной и сердечной чуткостью, он был чужд пошлости, мелочности и лукавства. Он никогда не гневался, пребывал всегда в ровном расположении духа. Его кротость поражала всех, кто встречался и общался с ним, все отмечали ее как одну из наиболее типичных черт его духовного облика. Непрестанная молитва и покаяние нередко были причиной его слез.
Его отношения с другими поражали абсолютной простотой и естественностью. Свои мысли он выражал ясно, без тени тщеславия или надменности, простым, понятным каждому языком. В его присутствии никто не чувствовал себя стесненным или скованным. Он проникновенно молился о своих собеседниках, и те уходили утешенными и укрепленными его молитвой. У него был дар своей молитвой приобщать собеседников высшему миру, своему сокровенному опыту, своим духовным состояниям, тем самым духовно преображая их.
Но как ни странно, у святого Силуана не было учеников. К нему не устремлялись толпы паломников, как это случалось позже с другими афонскими исповедниками. Его исключительные духовные дарования никак не сказались на его влиянии в монастыре: оно было весьма ограниченным. Только позже замечательные афонские подвижники осознали, кем он был. Многие монахи, жившие рядом со старцем, не понимали, почему посетители стремятся встретиться с ним. Архимандрит Софроний сам признает, что «при жизни своей он остался “неявленным”», и добавляет, что «это была не только воля Божия о нем, но и его собственное желание, которое принял Бог и исполнил, скрыв его даже от отцов Святой Горы» (с. 81–82). В семидесятых годах мы встречались с уже престарелыми насельниками Свято-Пантелеимоновского монастыря, знавшими его и считавшими его «просто хорошим монахом». Его честная глава, которой мы поклонились как драгоценным мощам в монастырской костнице, помещалась, как и прочие, на грубо выделанной деревянной полке, рядом лежал листок бумаги, на котором карандашом было записано его монашеское имя и даты рождения и смерти.
Только те, у кого была возможность вести духовные беседы непосредственно с ним и просить его молитв, могли почувствовать сияние скрытого сокровища его святости. Так было с некоторыми афонскими монахами, обращавшимися к нему за советом 25, паломниками (из числа духовенства или мирян), встречавшимися с ним и регулярно посещавшими его 26, с верующими, которые задавали через близких к старцу людей вопросы или писали ему и получали ответ 27или же ощущали действие его молитвы о них.
Нынешняя известность и влияние старца Силуана, чью святость Православная Церковьпровозгласила актом о канонизации от 26 ноября 1987 года 28, возникла по большей части благодаря усилиям архимандрита Софрония (1896–1993). Именно он, сам обладавший исключительными духовными дарованиями, очень много потрудился, чтобы жизнь и личность старца стали широко известны. И он же приложил значительные усилия, чтобы распространить и снабдить пояснениями труды преподобного Силуана.
Старец не готовил свои труды для публикации, они были изданы после его смерти архимандритом Софронием. В тетрадях, на отдельных листках, в письмах, а иногда и на полях книг 29преподобный оставлял черновые заметки, свидетельства своего внутреннего опыта 30. Сочинения старца подобны сосудам, обильно наполненным благодатью. Он любил Бога с такой силой и сам так ощущал любовь Божию, так глубоко переживал Его прощение и действие Его благодати, что не мог сдержать переполнявших его чувств, противостоять желанию выразить их. В сочинениях старца есть тому множество свидетельств (см. с. 297,482–483) – в частности, приведем одно из его высказываний, написанное в ответ на упрек одного из братии: «Любит душа моя Господа, и как скрою огонь сей, который согревает душу мою? Как скрою милости Господни, которыми увлечена душа моя? Как забуду милости Господни, в которых душа моя познала Бога? Как могу Я Не говорить о Боге, если душа моя пленена Им? Как буду молчать о Боге, когда дух мой распален любовью к Нему день и ночь? и разве противник я плача? Что ты, отче, вещал душе моей: зачем о Боге много говорю? Ведь душа моя любит Его, и как скрою любовь Господню ко мне?» (с. 502).
Читать дальше
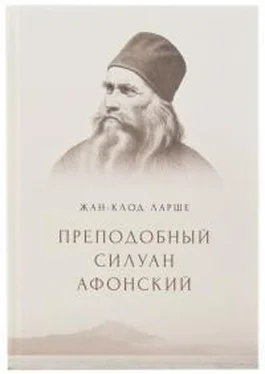
![Жан-Клод Ларше - Исцеление психических болезней [Опыт христианского Востока первых веков]](/books/26301/zhan-thumb.webp)